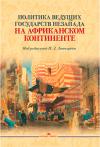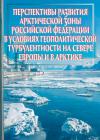Калейдоскоп исторической памяти в Северной Европе: от датской «оккупационной» вышивки до «100 лет шведского нацизма»
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
(Голосов: 5, Рейтинг: 5) |
(5 голосов) |
Младший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН
В преддверии 80-й годовщины Второй мировой войны в странах Северной Европы вновь поднимаются вопросы о значении того, «кто контролирует историю», пределах свободы слова и допустимых мнений, а также о том, как настоящее влияет на интерпретации прошлого, позволяя использовать его для продвижения определенных взглядов и идеологем.
В истории редко что-либо бывает черно-белым, а память о прошлом не должна препятствовать рациональному анализу текущих международных реалий. Как видно на примере Швеции, излишнее морализаторство и активное насаждение культа «шведской вины» и самобичевания, особенно широко развернувшиеся на протяжении 1990-х гг. и 2000-х гг. и фактически приравнявшие историческую ответственность Швеции и Германии за ход Второй мировой войны, привели, с одной стороны к тому, что в шведском Риксдаге впервые в 2010 г. с 5,7% голосов оказались Шведские демократы, партия с действительно неонацистскими корнями, а с другой — к тому, что в сознании новых поколений шведов «выветрились» представления о положительных сторонах и важном значении нейтралитета для внешней политики и безопасности страны. Такое самобичевание, драматически сгущающее краски при взгляде на собственную историю, со временем превратилось в своеобразное проявление шведского национализма и парадоксальным образом предмет национальной гордости.
Если в самих шведских учебниках фактически говорится, что Швеция не была нейтральной в годы Второй мировой войны и, по словам М.-П. Боэтиус, «вела себя как оккупированная страна, не будучи оккупированной», трусливо даже без особого принуждения идя на уступки нацистскому Берлину, то какие ценность и моральный смысл могут быть в сохранении такого уродливого «нейтралитета»? Не лучше ли полностью отринуть его и на новых условиях в качестве полноценного члена НАТО включиться в евроатлантическое сообщество и попытаться очистить себя от негативного наследия, искупить его служением сообществу демократических государств?
По всей видимости, такие пертурбации исторической памяти повлияли на мышление нынешнего поколения шведских и других североевропейских политиков. Отрицание и разрыв с предыдущими наработками шведских историков привели к тому, что нейтралитет перестал восприниматься как прагматичный и практический инструмент обеспечения безопасности и национальных интересов такого малого государства как Швеция, а «перетек» в сферу ценностей, рассуждений и представлений о шведской идентичности, того, какие ценности Швеция может проецировать и что может принести в мировую политику и глобальное управление. «Реализм малого государства» оказался если не забыт, то ушел на задний план под потоком исследований и книг о связях Швеции с нацистской Германией и отношении к Холокосту, порой выполнявшихся не профессиональными академическими историками, а журналистами и общественными активистами.
Если для Дании 9 апреля 1940 г. скорее представляется событием, которое ставит неудобные вопросы об ответственности политиков и военных и до сих используется для критики правительства в различных контекстах, указывая на их бессилие, беспомощность и медлительность, как в случае с их реакцией на наступление Дональда Трампа на Гренландии, то для Норвегии сопротивление нацисткой агрессии представляется более однозначным источником национальной гордости и единения. Особенно в этом контексте стоить отметить, что в годы Второй мировой войны многие норвежцы воспринимали действия соседней Швеции как откровенно враждебные.
Норвежский философ Гуннар Скирбекк отмечает, что основу сопротивления немецким оккупационным властям составляли именно гражданские организации и проявления гражданской смелости, которых в Норвегии к 1940 г. насчитывалось около 650, то есть организованные «спортивный», «церковный» и «школьный» фронты, а не военные акции и саботаж. Причины неприятия нацистской идеологии среди основной массы населения Норвегии Г. Скирбекк видит в характеристиках норвежской модернизации, для которой были характерны мягкий нереволюционный и негероический переход от традиции к прогрессивизму, уважение к законности и верховенству права и эгалитарные идеи народного просвещения, чуждые представлениям о национальном и культурном превосходстве. Причем наиболее активно сопротивлялись именно теологи и учителя, то есть те, кто принимал наиболее активное участие в формировании норвежского национального духа, в то время как полиция и деловые круги были более положительно настроены к коллаборационизму с нацистской Германией.
При этом в Дании стремление представить движение сопротивления в качестве единой и объединяющей силы сталкивается со значительными трудностями, так как в действительности датское общество в тот период было расколото. Это ярко выразил один из участников сопротивления, в частности Гражданских партизан (дат. BOPA), Таге Восс, помогавший в переправке беженцев в Швецию, в статье 1985 г.: «Правда также в том, что, несмотря на большую искреннюю поддержку в острых ситуациях, у партизан не было никакой широкой поддержки среди большей части населения, и едва ли вообще какой-либо симпатии с его стороны. Движение сопротивления в Дании никогда не поддерживалось населением. Перед партизаном, спасающимся от немцев, скорее захлопнули бы дверь, если вообще не выдали бы его оккупационным властям».
Такая двойственность, по всей видимости, даже нашла буквальное отражение в вышивке, впервые опубликованной в дамском журнале в 1948 г., которая посвящена пяти годам немецкой оккупации, на которой датская память о прошлом образно оказывается расколота на две части. Этот вышитый узор или орнамент, в котором отражены основные события, места, люди и понятия, связанные с оккупацией не только Дании, но и Норвегии, был чрезвычайно популярен в послевоенной Дании. В 1945–1970 гг. было продано около 100 тыс., а с 1958 г. он стал продаваться в полноценных наборах. Левая сторона выполнена в темных и темно-зеленых тонах и образно воплощает преступления и меры немецких оккупационных властей. К примеру, вышито название штаб-квартиры компании Shell (дат. Shellhuset) и кинотеатра Дагмар (дат. Dagmarhus), где в период оккупации располагались отделения Гестапо, а также печально известный ХИПО-корпус полицейских-коллаборационистов, сотрудничавших с Гестапо. Правая часть выполнена в ярких красных, синих и зеленых цветах и посвящена датскому движения сопротивления. Например, приведены куплеты из популярных протестных песен, имена священника Кая Мунка и псевдонимы наиболее известных участников сопротивления «Пламя» и «Цитрон», а также мемориальный парк Рюванген, место казни и захоронения бойцов датского сопротивления, где ежегодно 5 мая чтится их память и освобождение Дании от немецкой оккупации.
Взаимная имагология России и Финляндии сложна и колоритна, а судьбы двух стран тесно переплетены, учитывая, что многие характеристики финской государственности и нации сложились, пока она была частью Российской империи. Пожалуй, наиболее важным и болезненным вопросом общего прошлого России и Финляндии остается участие последней во Второй мировой войне на стороне Германии, оккупация Карелии и участие финских войск в блокаде Ленинграда, которую в октябре 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом. Дискуссии российских и финских историков по различным аспектам этого конфликта и подходам СССР к выстраиванию отношений с Финляндией после окончания Второй мировой войны продолжаются до настоящего момента.
Современная Финляндия делает крайне негативные выводы из опыта холодной войны и ни в коем случае не желает оказаться в том же положении. Ради достижения этой цели Финляндия, вероятно, даже пожертвовала координацией совместного со Швецией вступления в НАТО. Северная и трансатлантическая солидарность оказывается для Финляндии менее важной, чем предотвращение повторного промежуточного положения страны между де-факто двумя блоками, в котором страна оказалась в период холодной войны.
В отношениях между Россией и Финляндией различные аспекты Зимней войны (ноябрь 1939 – март 1940 гг.), «войны-продолжения» (июнь 1941 г. – сентябрь 1944 г.) и Лапландской войны (сентябрь 1944 г. – апрель 1945 г.) между Финляндией и Германией то отходят на второй план, то приобретают особую значимость. Так, в финском общественном неакадемическом сознании, несмотря на многочисленные нюансы и трансформации в послевоенный и постсоветский периоды, Зимняя война и «война-продолжение» воспринимаются как «фундаментально положительный и незаменимый опыт, нечто, представляющее ценность для самой сущности финской нации, то, то делает современную Финляндию такой, какая она есть». Даже появление работ финских историков, где освещаются, к примеру, акты насилия по отношению к русскому населению Восточной Карелии, не смогли серьезно изменить тенденции, заданные неопатриотическим поворотом в финской памяти в 1990-х гг., которые отчасти были заложены еще в период так называемой финляндизации, которая отнюдь не означала полное доминирование советской интерпретации событий Второй мировой войны и широкую самоцензуру в финском научном и общественном дискурсах, где, напротив, одновременно сосуществовал весь спектр интерпретаций — от радикально националистических до просоветских.
В современной Финляндии с учетом вступления страны в НАТО интерпретация линии Паасикиви-Кекконена как следование нейтралитету уже потеряла актуальность, в то время как возобладало ее критическое восприятие, связанное с «финляндизацией», означавшей уступки национальных интересов и добровольное ограничение свободы действий во внутренней и внешней политике. При этом возобладало восприятие «финляндизации» именно как некой объективной реальности, хотя в действительности эта идеологема направлена в первую очередь на обоснование неизбежности вступления в НАТО, недопустимости снижения военных расходов и отступления от блоковой дисциплины.
Можно ожидать, что как следствие общего значительного ухудшения отношений России с ЕС в общественно-политическом дискурсе Финляндии могут возрождаться ранее забытые негативные аспекты образа России, хотя в обоих странах уже накоплен значительный объем подробных и качественных исторических исследований и проведенных открытых дискуссий. Иными словами, можно сказать, что Россия и Финляндия в целом достигли примирения, так как сам этот процесс не потребовал пересмотра существенных параметров национальной и коллективной идентичности и предусматривал возможность сохранения этой памяти как источника патриотизма и национальной гордости в обеих странах. В то же время образ России в Финляндии имеет намного более глубокие корни и связан далеко не с только событиями Второй мировой войны и может использоваться в самых разных контекстах и с разными целями в зависимости от внешних обстоятельств и общего характера отношений России, США и ведущих европейских стран. К примеру, в онлайн-обсуждениях на форуме Suomi24 в 2001–2017 гг. «российская угроза» использовалась как для обоснования присоединения к НАТО, так и, напротив, для сохранения нейтралитета. Такое двойственное восприятие отражается и в эволюции режима функционирования российско-финской границы, которая тщательно охранялась даже в период советско-финской дружбы, после распада СССР, напротив, стала областью широкого пограничного сотрудничества и трансграничных контактов, а сейчас вновь подвергается секьюритизации. В глазах старшего поколения Финляндии граница с Россией и сама Россия до сих пор представляются в основном чем-то чуждым, связанным со страхом и войной.
Датский журналист Петер Краммер, автор книги об отношениях датской королевской семьи и руководства нацистской Германии, изданной 18 сентября 2024 г., отвечая на критику со стороны представителей исторической науки на портале Altinget в октябре 2024 г., поставил два вопроса, которые представляются крайне важными для понимания исторической памяти в странах Северной Европы. С одной стороны, он указал на то, что это серьезная демократическая проблема, когда нельзя с полной открытостью обсуждать и задавать вопросы об истории страны, особенно в тех случаях, когда это неприятно, а с другой вступил в полемику с академическим сообществом — «Истина не принадлежит Стину Андерсену и компании. Ученые-историки не обладают монопольным правом на владение и толкование нашей истории». В соседней Швеции будто как своеобразный отголосок датских дискуссий 1 марта 2025 г. на сцене театра в Эребру состоялась премьера пьесы Андреаса Бунстра «Суд над истиной» (швед. Sanningen inför rätta), посвященной судебному разбирательству между отрицателем Холокоста Дэвидом Ирвингом и историком Деборой Липштадт.
Ранее с 1 июля 2024 г. в Швеции отрицание Холокоста стало уголовно наказуемым преступлением. Причем внесение изменений в Уголовный кодекс Швеции и в Акт о свободе печати было единогласно одобрено депутатами шведского Риксдага и не сопровождалось напряженными дискуссиями. В Дании после декабря 2023 г., когда в уголовное законодательство были внесены положения, специально запрещающие сожжение и другие формы неподобающего обращения с религиозными и священными книгами и писаниями, оживилась дискуссия и о специальной криминализации отрицания Холокоста. Но на настоящий момент в Дании отрицание Холокоста само по себе не относится к преступлениям, если не используется в целях разжигания ненависти и насилия к определенным этническим и расовым группам, то есть подпадает под соответствующие статьи Уголовного кодекса. В Финляндии в плане правительства по борьбе с расизмом и продвижению равенства, представленном в сентябре 2024 г., указано только намерение изучить возможность изменения Уголовного кодекса с целью введения уголовной ответственности за отрицание Холокоста. Финское правительство, согласно документу, также планирует провести юридическую экспертизу возможности запретить использование символов нацизма и коммунизма. Кроме того, в соответствии с решением премьер-министра от 25 января 2024 г. официальное финское название 27 января «Дня памяти жертв преследования» было изменено на «День памяти жертв Холокоста». Соседняя Норвегия пока следует более консервативному подходу, и аналогичные планы по криминализации отрицания Холокоста не содержатся в докладе комиссии по борьбе с экстремизмом, который был представлен в марте 2024 г., хотя в документе и упомянуты 773 норвежских евреев и еврейских беженцев, которые были депортированы в немецкие концентрационные лагеря, и отрицание Холокоста обозначено как часть правоэкстремистских взглядов, представляющих угрозу для норвежского общества. Исландия также пока следует за практикой Дании и Норвегии и не заявляла конкретных планов по криминализации отрицания Холокоста, хотя подобные предложения в январе 2021 г. уже звучали в национальном парламенте.
Таким образом, в преддверии 80-ой годовщины Второй мировой войны в странах Северной Европы вновь поднимаются вопросы о значении того, «кто контролирует историю», пределах свободы слова и допустимых мнений, а также о том, как настоящее влияет на интерпретации прошлого, позволяя использовать его для продвижения определенных взглядов и идеологем.
К примеру, двойственность шведской позиции и закрытость определенных тем от широкой общественной дискуссии точно передала советская писательница З. Воскресенская в романе «Девочка в бурном море» 1978 г.: «…Как просто все на Родине. О чем мечтаешь, что любишь и что ненавидишь — открыто и понятно для всех. А здесь надо считаться с «нейтралитетом» и самой быть нейтральной и ни на минуту не забывать, что вокруг тебя немцы и разные шведы: одни — за фашистов, другие — за англичан, третьи — за финнов, и все они против нас».[1] По иронии истории и в подтверждение этой цитаты шведский политолог Хенрик Екенгрен Оскарссон в декабре 2013 г. предложил термин «коридор мнений» (швед. åsiktskorridor), который стал широко распространенным и за пределами Швеции, обозначая те взгляды и позицию, которые можно высказывать в общественном пространстве без риска быть осужденным. Сам Х. Оскарссон, рассуждая о судьбе этого термина, в 2021 г. отмечал: «Определенная доля конформизма часто необходима для того, чтобы существовали семьи, социальные группы и рабочие места. Это касается и всего общества, в целом…». При этом он добавляет, что за последние 30 лет набор мнений в шведском обществе существенно не изменился и нельзя говорить о поляризации общественных настроений, но одни позиции стали более допустимыми и приемлемыми, а другие — нет. При этом сами шведские политики, которые, по словам Х. Оскарссона, ведут за собой общественное мнение, зачастую делают противоречащие друг другу по тональности заявления.
Так, премьер-министр Ульф Кристерссон, обращаясь к нации 9 февраля 2025 г., в связи с шутингом, произошедшим 4 февраля в образовательном комплексе города Эребру, говорил о единстве и солидарности, проявлении заботы обо всех членах шведского общества. Но за несколько дней до трагедии заявлял о необходимости жесткой борьбы с преступностью, которая вызвана и потоками иммиграции в Швецию, а одна из идей нынешнего коалиционного правительства предполагает обязать сотрудников образовательной и здравоохранительной сфер, а также органов местной власти сообщать в правоохранительные органы об обнаруженных или обратившихся к ним нелегальных иммигрантах. В схожем ключе У. Кристерссон, с октября 2017 г. возглавивший Умеренную коалиционную партию, постепенно пересмотрел свою позицию по вопросу о недопустимости сотрудничества со партией Шведскими демократами, изначально возникшей из шведской неонацистской среды, и слова, сказанные в июне 2018 г. шведской писательнице еврейского происхождения Хеди Фрид и в феврале 2018 г. в интервью с журналистом Свеном Меландером о том, что он исключает сотрудничество со Шведскими демократами. Такой поворот У. Кристерссон объяснил тем, что эти заявления он делал, когда еще существовал Альянс за Швецию, союз четырех правоцентристских партий, который в сущности распался во время переговоров о создании правительства после парламентских выборов в сентябре 2018 г. Но его критика как политика, совравшего женщине, пережившей Холокост, продолжается до настоящего момента как в СМИ, так и в его личных профилях в социальных сетях, и вновь усилилась после шутинга в Эребру, который представлялся поводом для ухода премьер-министра в отставку и объявления досрочных выборов.
Более того, как в ноябре 2020 г. подметила шведская писательница Элисабет Осбринк: «Чем больше я нахожусь в Дании, тем больше я осознаю, как мало скандинавы знают друг о друге. Несмотря на небольшое население, относительное сходство языков и схожие социально-экономические модели, северные страны имеют очень разное самовосприятие, и Вторая мировая война в этом отношении играет роль решающего водораздела». Эту мысль подтверждает и норвежский философ Г. Скирбекк, подчеркивая, что Вторая мировая война для всей Северной Европы стала общей и важной разделительной геокультурной и геополитической линией. Если до войны в странах Северной Европы первым иностранным языком во многих видах деятельности от теологии до рабочего движения был немецкий, и Германия, в целом, оставалась для региона центром культурного, экономического и военно-политического притяжения, то после Второй мировой войны северные страны оказались «вытолкнуты» в англо-американскую сферу[2]. Норвежская писательница Сигрид Унсет также воспринимала южную границу Дании как некий «духовный рубеж» (дат. åndsgrænse), объясняя закрытость и холодность датского народного характера постоянным страхом перед сильным врагом на юге: немцами. По ее словам, «современная датская нация была создана, когда страна повернулась спиной к Германии и перестала бояться угрозы с севера»[3]. Конкретно в случае Дании 9 апреля 1940 г. в этом контексте даже оказывается в тени войны 1864 г. Датский историк Кнуд Йесперсен в работе «История датчан 1500–2000 гг.», изданной в 2007 г., так и утверждает: «Современную датскую идентичность во всех ее аспектах, таким образом, сложно осмыслить, не принимая во внимание поражение 1864 г.»[4]
Историческая память стран Северной Европы и их отношение ко Второй мировой войне и другим аспектам новейшей истории наполнены схожими противоречиями и несостыковками, которые продолжают влиять на их политическую жизнь и представления о границах допустимого правильного поведения. В качестве еще одной наглядной иллюстрации этой двойственности можно указать на то, что в Эстергетландском театре в Линчепинге 15 февраля 2025 г. состоялась премьера музыкальной пьесы «Леандер» шведского драматурга Нильса Полетти. В ней на примере жизни и карьеры шведской актрисы и певицы Цары Леандер ставятся вопросы личной ответственности при взаимодействии с нацистским режимом в Германии и его медиаиндустрией, в частности. В пьесе Н. Полетти, не претендующей на историческую достоверность, Ц. Леандер предстает талантливой и невероятно привлекательной артисткой, которая пусть и не поддерживает нацизм и даже отчасти противостоит ему, оберегая костюмера-еврея, но при этом не стесняется использовать свою популярность среди нацистов, чтобы сколотить личное состояние и выбиться в люди. На этом фоне сложно не задуматься, а не пытался ли Н. Полетти через описание перипетий жизненного пути Ц. Леандер создать аллегорический совокупный образ самой Швеции и ее внешних и внутренних дилемм? Как пела Ц. Леандер в 1939 г.: «Я тоже солгу и буду твоей».
Настоящий материал при этом не всеобъемлющий, и за его рамками остались ряд важных сюжетов как освобождение Восточного Финнмарка Красной Армией, советский десант на Борнхольме, память о Второй мировой войне в Исландии и ряд других, которые заслуживают отдельного анализа. Цель этого текста скорее в том, чтобы подсветить «болевые точки» исторической памяти в Северной Европы, которые, вероятно, больше всего влияют на их нынешнюю внутреннюю и внешнюю политику.

Скандинавский взгляд на Победу
Швеция: от национальной вины к забвению «нейтралитета» и «новым» социал-демократам
В Швеции отчасти по аналогии с Германией начиная с 1970-х гг. постепенно сформировалась концепция «шведской вины» (швед. mea culpa-Sverige), когда в памяти о Второй мировой войне доминируют уступки нацистской Германии, разрешение на транзит немецких войск и вооружений через свою территорию, экспорт железной руды и подшипников в Германию и другие неприглядные страницы. В популярной культуре такое восприятие собственного прошлого было закреплено 7-серийным фильмом «Где-то в Швеции», премьера которого на шведском телевидении состоялась 25 декабря 1973 г. В нем показаны события из жизни небольшой группы шведских солдат в период Второй мировой войны, испытывающих сожаление и муки совести от аморальных действий шведского правительства. Подобное представление о Швеции как о трусливой и слабой стране, которая шла на любые уступки Германии, преобладало в шведской историографии и обществе вплоть до начала 2010-х гг., что ярко сформулировал шведский историк Хенрик Арнстад в работе 2009 г. «Приговоренные к стыду»: «Шведская проблема состоит в том, что Вторая мировая война не может служить источником создания объединяющей позитивной идентичности. Шведы отличаются от народов других стран, которые были оккупированы Германией, и где можно прославлять участников движения сопротивления. Это проявилось уже 7 мая 1945 г., когда жители Стокгольма, празднующие капитуляцию Германии, предпочитали размахивать по большей части норвежскими флагами…Даже Финляндии, которая принимала участие в войне на стороне стран “оси”, удается создать позитивную идентичность на основе боевого опыта. Но чем на самом деле могут гордиться шведы?».
Так, из шведской памяти практически исчез бизнесмен и дипломат Рауль Нордлинг, в честь которого во французской столице названа небольшая и неприметная площадь и которого посол Франции в Швеции в 2012 г. в 50-ю годовщину его смерти назвал «шведом, спасшим Париж». При этом Р. Нордлинг, с одной стороны, благодаря фильму «Дипломатия» 2014 г. скорее стал восприниматься именно как персонаж франко-германских отношений, в меньшей степени связанный с самой Швецией, а с другой — в действительности не играл ключевой роли в «спасении Парижа», а представлял интересы шведского бизнеса, в частности, таких компаний как SKF и Alfa Laval в переговорах с немецкими властями. Именно это позволило ему стать своего рода посредником между ними и французским сопротивлением при обсуждении перемирия и освобождения пленных французов в августе 1944 г. Миф о нем как о «спасителе Парижа» — скорее продукт кинематографа, в частности фильма «Горит ли Париж?» 1966 г., и ряда художественных и исторических книг. В целом, Р. Нордлинг больше связан с французской памятью, чем шведской, и даже на родном шведском языке говорил с сильным французским акцентом. Отчасти схожая ситуация произошла и с Раулем Валленбергом, чей день памяти 27 августа был официально установлен шведским Риксдагом лишь в апреле 2013 г. после 12 лет повторявшихся законопроектов с предложением почтить его память. Деятельность Р. Валленберга не занимает значительного места в учебных планах шведских школ, а первый памятник ему в Стокгольме был открыт лишь 23 мая 2023 г. До этого памятники ему были открыты в августе 2002 г. в Линчепинге и в мае 2007 г. в Гетеборге.
Х. Арстад в статье для Tidningen Vi в июле 2023 г. называет ключевым событием в формировании «шведской вины» и решительном разрыве с широко распространенной до начала 1970-х гг. интерпретацией внешней политики Швеции в период Второй мировой войны как «реализма малого государства» книгу шведской писательницы Марии-Пии Боэтиус «Честь и совесть», изданную в 1991 г., когда Швеция уже выбрала путь полноценного присоединения к европейской интеграции. По мнению Х. Арстада, публицистическая работа М.- П. Боэтиус, сильно повлиявшая на шведское общественное мнение, хорошо вписалась в тогдашний исторический контекст, ведь для нейтральной в годы Второй мировой войны Швеции в проекте ЕС, который подавался как гарант мира между европейскими странами и предотвращения новых разрушительных войн на территории Европы, оставался лишь образ «злодея», который успешно создала М.-П. Боэтиус. В начале 1990-х гг. еще до публикации ее книги даже стало популярным выражение: «Швеция вступила во Вторую мировую войну в 1990 г.»[5].
В 2005 г. выставка, посвященная отношениям Швеции и Германии в период войны и организованная государственным Форумом живой истории, была, по мнению Х. Арнстада, направлена на то, чтобы доказать, что «Швеция была нацистской страной» и что «Швеция поспособствовала Холокосту». Впоследствии такое шведское «самобичевание», фактически уравнивающее ответственность и роль Швеции и Германии во Второй мировой войне и нашедшее широкое отражение в шведских учебниках, по мысли Х. Арнстада, в сущности затмило позитивные стороны шведского нейтралитета, что в итоге облегчило вступление в НАТО и одновременно дало Шведским демократам, партии с действительными неонацистскими корнями, платформу для борьбы с Социал-демократической рабочей партии Швеции. Так, Х. Арнстад, ссылаясь на шведскую исследовательницу Ингмари Даниэльссон Мальмрос, пишет о том, что со временем во все более новых изданиях шведских учебников критический тон в оценках Швеции в годы Второй мировой войны все более нарастал, и при анализе шведских уступок нацистскому режиму даже исчез фактор угроз и принуждения со стороны Берлина, Швеция будто пошла на них абсолютно добровольно. В 2018 г. в духе своеобразной иронии Шведские демократы сняли откровенно пропагандистский фильм «Один народ, одна партия — история социал-демократов», где делалась попытка приравнять шведскую социал-демократию и германский нацизм, и который предсказуемо подвергся разгромной критике со стороны шведских историков. Излишнее морализаторство в отношении собственной истории и замалчивание немногих, но все же положительных сторон и действий Швеции в военные годы, по мысли Х. Арнстада, способствовали эрозии в шведском общественном сознании представлений о позитивной роли нейтралитета для Швеции, что в итоге и позволило осуществить вступление в НАТО даже без проведения референдума.
М.-П. Боэтиус, отвечая на статью Х. Арнстада, также в июле 2023 г. заявила, что нынешнее поколение шведских историков в свете вступления страны в НАТО будет стремиться к тому, чтобы осуществить смену парадигмы и концентрироваться на тех страницах шведской истории, которые могут показать вклад Швеции в победу над нацизмом, затушевав неудобные аспекты, которые ранее исследовались, к примеру, в масштабном историческом проекте «Отношение Швеции к нацизму, нацисткой Германии и Холокосту» (швед. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen, Swenaz) в 2000–2011 гг. Основные результаты этого проекта нашли отражение в чуть более 700-страничной монографии его руководителя, историка Класа Омарка, которая была опубликована в январе 2011 г. Выводы, представленные К. Омарком, были довольно критичными и не стремились каким-либо образом оправдать шведские уступки нацистской Германии. В частности, в работе утверждалось, что, идя на уступки Берлину, Швеция руководствовалась в первую очередь не страхом оказаться втянутой в войну, а торговыми интересами, желая прежде всего сохранить возможность импорта необходимых товаров, чтобы избежать дефицита как в годы Первой мировой войны. Кроме того, масштаб сотрудничества с Берлином определялся не только стремлением сохранить нейтралитет, но и в случае победы Германии обеспечить Швеции достойное место в новом европейском порядке. При этом К. Омарк подчеркивает, что давать моральные оценки действиям шведских политиков, исходя из нынешних реалий и знаний, неверно, и, к примеру, несмотря на распространенный в Швеции бытовой антисемитизм, в вопросе с еврейскими беженцами с 1942 г. Стокгольм постепенно занял благожелательную позицию, и когда в июне 1945 г. убежище в Швеции получили 10 тыс. узников концентрационных лагерей, это не привело к значительным протестам. До настоящего времени эта позиция продолжает контрастировать с мнением другой группы историков, придерживающихся «реализма малого государства», в частности Кента Цеттерберга, под редакцией которого в ноябре 2021 г. был опубликован сборник статей о роли Швеции во Второй мировой войне, где подчеркиваются позитивные аспекты шведского нейтралитета и его положительные долгосрочные последствия для всего региона. Так, в работе подчеркивается, что уступки Швеции не имели большого значения для Германии, и союзники, в том числе СССР и Великобритания, не слишком критиковали транзит немецких войск через территорию Швеции в июне 1941 г., а сам транзит не был бесплатным. Кроме того, в немецкой прессе позиция Швеции получала преимущественно негативные оценки, Швецию называли «свиньей в смокингах», говорилось о «нейтралитете стервятника», а в 1941 г. Гитлер назвал Швецию страной «ленивой буржуазии».
Парадокс, однако, состоит в том, что если и говорить о вкладе Швеции в общую борьбу союзников с Германией, то он был возможен именно за счет уже утраченного в нынешних условиях нейтралитета, основанного на прагматизме шведских политиков. К сожалению, прагматизм в дискуссиях о формировании исторической памяти в Швеции зачастую отсутствовал, что приводило к поляризации. Прагматичные и здравые решения шведские, как и другие североевропейские политики принимают слишком поздно, и ситуация периода Второй мировой войны не стала исключением. Так, если в 1938–1939 гг. военный бюджет Швеции составлял 258 млн крон, то в 1941–1942 гг. он достиг уже 2 млрд крон.

Парадоксы шведской политики
Шведские атлантисты, к примеру, Гуннар Хекмарк, бывший депутат Риксдага и Европейского парламента, а с 2017 г. сотрудник аналитического центра Frivärld, стремятся как можно активнее развенчать миф о шведском «нейтралитете», стремясь в конечном счете доказать безальтернативность вступления Швеции в НАТО. Так Г. Хекмарк, говоря о Швеции во Второй мировой войне, замечает: «Мы остались вне войны не благодаря нейтралитету. Об этом свидетельствуют примеры Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Нам удалось не вступить в войну благодаря географии нашей страны, вооруженным силам и тому, что мы пошли навстречу требованиям нацистской Германии. Когда другие сражались с нацизмом, мы смотрели в сторону. Такая позиция полностью соответствовала собственным интересам Швеции, но в ней не было никакой морали.» Подобная самокритика национальной истории используется во внутриполитической борьбе правоцентристского блока с Социал-демократической рабочей партией Швеции и не в последнюю очередь для развенчания определенного культа Улофа Пальме, который в сентябре 1984 г. на конгрессе СДРПШ заявлял: «Мы не занимаемся антисоветизмом». Присоединение к НАТО, таким образом, подается как давно назревшая, но специально тормозившаяся социал-демократами нормализация внешней политики Швеции, которая наконец-то становится в один ряд с другими «свободными и демократическими европейскими нациями».
Не стоит, однако, забывать, что американская демократия в период Второй мировой войны крайне негативно воспринимала отношения Швеции и Германии, и в январе 1943 г. госсекретарь США Корделл Халл в телеграмме дипломатическому представительству США в Швеции писал: «…подчинение [Швеции — прим. автора] немецким интересам означает не только отступление от строгого шведского нейтралитета, но в сущности превращение во враждебного пособника, чье поражение должно представлять жизненный интерес для всех свободолюбивых народов, включая самих шведов». Финансовый атташе Ивер Ольсен в дипломатической миссии США высказывался еще более категорично: «…за исключением фактического военного сотрудничества Швеция уже вложила максимум средств и усилий в укрепление немецкой военной машины». При этом с целью вынудить шведскую сторону прекратить экспорт шарикоподшипников в Германию США применяли методы, которые во многом напоминают нынешний подход Дональда Трампа к Гренландии. В частности, переговоры об этом в мае 1944 г. вели главным образом не дипломаты, а американские и шведские бизнесмены Стэнтон Гриффис и Маркус Валленберг и Харальд Хамберг, причем вторые пошли на уступки лишь тогда, когда Гриффис намекнул, что это была бы ужасная трагедия, если американский бомбардировщик из-за туманов вдоль шведского побережья перепутает Гетеборг и Гамбург. Полностью торговля Швеции и Германии прекратилась лишь к ноябрю 1944 г. Управление стратегических служб, в частности, Брюс Хоппер, однако позитивно оценивали шведский нейтралитет на начальных этапах войны, так как ее оккупация стала бы серьезным ударом для союзников.
Другой раскол в обсуждениях исторического опыта Швеции проходит по линии отстаивания национальных интересов и, напротив, приверженности идеализму, неким ценностям во внешней политике. Так, шведский исследователь Йохан Веннстрем, занимавший в 2012–2013 гг. пост политического советника на тот момент еще министра по вопросам социальной защиты Ульфа Кристерссона и придерживающийся, по собственным словам, консерватизма и реализма, не склонен давать негативные оценки внешнеполитическому курсу социал-демократических правительств в годы холодной войны, а, напротив, считает его прагматичным и разумным, имея в виду взгляды Пера Альбина Ханссона, Таге Эрландера и не в последнюю очередь все того же У. Пальме. В первую очередь в соответствии с такой позицией Швеции необходимо полагаться на саму себя и активно укреплять национальные вооруженные силы, и неслучайно, что Й. Веннстрем, иллюстрируя свою позицию, приводит слова адмирала и позднее премьер-министра Швеции Арвида Линдмана: «Кто же останется на страже Матери Швеции? (швед. Moder Svea)».
Подобное обращение именно к опоре на национальную военную мощь представляется неслучайным. Ранее 9 апреля 2021 г. в день памяти вторжения Германии в Норвегию и Данию бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что шведская армия, даже несмотря на недостатки, была все же более боеспособной по сравнению с соседями и в случае агрессии Гитлера могла вступить с ним в настоящую борьбу, что ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны Копенгагена и Осло. Вероятно, что такие попытки напомнить о военных возможностях Швеции и ее былой мощи и гордости связаны с тем, что начиная с 1960-х гг. в учебниках по шведской истории перестали активно прославляться военные подвиги и достижения шведских королей, таких как Густав Ваза или Густав II Адольф. При этом в Швеции и за ее пределами остается крайне популярной металл-группа Sabaton, которая известна прежде всего песнями и клипами о сражениях и мировых войнах. В январе 2023 г. Sabaton стала первой рок-группой, несмотря на критику за озвученную пророссийскую позицию и концерт в Крыму в 2015 г., получившей престижную премию «Народные просветители — 2022», ежегодно присуждаемой с 1987 г. шведской ассоциацией Науки и народного просвещения (швед. Vetenskap och Folkbildning, VoF). В феврале 2021 г. вооруженные силы Швеции также отказались от сотрудничества с шведскими рокерами в связи с празднованием 500 лет создания Королевской гвардии Швеции, которой Sabaton посвятили отдельный сингл. В связи с этим солист группы Йоаким Броден с сожалением говорил о том, что «страх перед Россией» (швед. rysskräcken) до сих пор живет в Швеции. Пожалуй, эти примеры иллюстрируют разрыв между той памятью и шведской идентичностью, которая транслируется на государственном уровне и тем, что хотели бы видеть сами шведы.
В марте 2024 г. после вступления Швеции в НАТО Й. Веннстрем также призывал не переоценивать пятую статью и гарантии безопасности, которые предоставляет альянс, а полагаться в первую очередь на национальные вооруженные силы Швеции. В то же время этот шведский исследователь последовательно в апреле 2024 г., ноябре 2024 г. и марте 2025 г. выступал с откровенно опасной и нереализуемой идеей совместной шведско-украинской разработки атомного оружия, которое должно дать обеим странам лучшую защиту, чем Североатлантический альянс. Это возымело некоторый эффект, и уже в январе 2025 г. и марте 2025 г. на страницах Dagens Nyheter появились статьи, приглашающие к размышлению о шведском ядерном оружии и его совместных североевропейских разработках. Крупные СМИ региона, где в период холодной войны предлагались инициативы по созданию североевропейской безъядерной зоны, публикуют статьи, которые ранее было сложно представить. Согласно мартовскому опросу социологического центра Novus, 55% шведов были против ядерного оружия на шведской территории, в то время как 26% считают, что это «возможно» и 15% — «абсолютно необходимо». Остается надеяться, что потенциальные колебания общественного мнения не станут поводом для резкого изменения позиции Швеции и в этом вопросе как это произошло в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Решение начать разработку ядерного оружия в Швеции, однако, представляется крайне маловероятным. Так, еще в годы холодной войны, после того, как в 1954 г. главнокомандующий вооруженными силами Швеции Нильс Сведлунд впервые заявил, что для наилучшего поддержания военного потенциала нейтральной Швеции необходимо создать ЯО, основным аргументом против этой идеи была его дороговизна, а также неясность целей его применения. Как указывал идеолог социал-демократической партии Эрнст Вигфорс, если Швеция собирается применять ЯО в случае нападения на свою территорию со стороны СССР, то она рискует уничтожить собственное население, а если речь шла о нападении на Швецию в ходе крупного конвенционального конфликта между сверхдержавами — положить начало уже ядерной войне. Кроме того, свою роль сыграли опасения раскола внутри социал-демократической партии, так как политические тяжеловесы как Инга Торссон, глава Женского социал-демократического союза, и Эстен Унден, министр иностранных дел, выступали против планов создания ядерного оружия в Швеции.
C началом разработки истребителя Saab 37 Viggen, главнокомандующий шведскими вооруженными силами в 1962 г. заявил, что основной целью должно стать отражение потенциальной агрессии конвенциональными силами. Тем не менее дебаты, разгоревшиеся тогда вокруг потенциального шведского ядерного оружия, привели к тому, что относительная монополия шведской военной элиты на обсуждение, экспертизу и ведущую роль в решении военно-стратегических вопросов была нарушена, в эти вопросы впоследствии все больше начало вовлекаться гражданское общество. Пожалуй, в этом и состоит главное последствие «ядерного сюжета» времен холодной войны для современной Швеции. При этом стоит отметить, что шведское общественное мнение в этом вопросе даже в годы холодной войны сильно качалось. Если в летом 1957 г. 40% шведов поддерживали создание собственного ядерного оружия, то к 1961 г. — только 21%.
Одной из тенденций современной исторической памяти Швеции продолжает быть повышенное внимание к роли увлечения нацизмом в судьбе отдельных людей и организаций. Так, в январе 2024 г. была издана книга «Путешествие Веры. Моя сестра национал-социалистка» шведского журналиста и историка Фольке Шимански, биография его сестры Веры Оредссон, которой в 2025 г. исполняется 97 лет и которая остается своеобразным «памятником» неонацистского движения в Швеции и состоит в Северном движении сопротивления, признанном в июне 2024 г. Госдепартаментом США «глобальной террористической организацией». В феврале 2025 г. была издана книга шведского историка Андреаса Гедина о нацистском «следе» в жизни и творческой карьере известного шведского фотографа XX в. Кристера Стремхольма, который сделал серию фотографий о жертвах атомных бомбардировок Хиросимы, в том числе ослепшей японской девочки, снятой в 1963 г. и которая остается, пожалуй, наиболее известной из всей серии. В первом случае присоединение к нацизму подается как следствие насилия в семейном кругу и личной психологической травмы, а во втором показывает, как нацистское прошлое, в том числе участие в нападениях на участников левых движений и помощь нацистам в побеге из Норвегии, используется как часть пиара фотохудожника и создание вокруг него ореола таинственности. Связь с нацизмом как реальная, так и частично преувеличенная в случае К. Стремхольма при поддержке шведских журналистов в послевоенный период стала инструментом привлечения внимания публики к его работам.
Внимание шведских историков также давно привлек хвалебный некролог Свена Хедина по случаю смерти Адольфа Гитлера, опубликованный 2 мая 1945 г. на страницах газеты Dagens Nyheter[6], с которым шведского географа и путешественника связывали узы дружбы, начавшейся во время их первой встречи в 1935 г. При этом, как отмечает Х. Арнстад, в целом, осуждая действия Швеции в период Второй мировой войны, шведские историки склонны объяснять увлечение нацизмом и сотрудничество с нацистской Германией таких представителей культурной и экономической элиты Швеции как Цара Леандер, Ингвар Кампрад, Свен Хедин или главный редактор Dagens Nyheter Стен Дельгрен их политической наивностью, то есть отсутствием понимания того, что на самом деле происходило в международных отношениях.
Подобные биографические работы регулярно вызывают полемику среди историков и общественности в странах Северной Европы. Ранее широкие дискуссии в Швеции в 2011 г. также вызвала книга шведской писательницы Елизаветы Осбринк о нацистском прошлом Ингвара Кампрада, основателя IKEA, который в 1940-х гг. был глубоко вовлечен в деятельность нацистского движения в Швеции и активно занимался вербовкой новых членов, попав в поле зрения шведских спецслужб. Любопытно, что сама компания не стала как-либо открещиваться от неудобных страниц биографии своего создателя, и в музее IKEA, открытом в городе Эльмхульт в июне 2016 г., посвятила его нацистскому прошлому отдельную композицию. В Дании конфликт в научном сообществе вызвала книга историка Петера Тудвальда «Стадии пути к антисемитизму. Серен Кьеркегор и евреи», изданная в 2010 г., сам историк ранее из-за противоречий с коллегами покинул 1 октября 2005 г. Центр изучения творчества Серена Кьеркегора при Копенгагенском университете. Пожалуй, можно говорить о том, что подобные расследования превратились в отдельный жанр исторической и публицистической литературы в Северной Европе, хотя в случае С. Кьеркегора «антисемитизм» скорее носил аллегорический характер, который приводил к отождествлению иудаизма cо следованием земным наслаждениям и интересам, что особенно ярко проявилось в его конфликте с Датской народной церковью. При этом сам отец С. Кьеркегора, с которым он враждовал, был активным сторонником включения евреев в датскую общественную и экономическую жизнь, совпадая по взглядам с крупным датским бизнесменом еврейского происхождения Менделем Левином Натансоном, в середине XIX в. также занимавшим должность редактора в будущем крупной газеты Berlingske Tidende.
Внимание к темным страницам политического прошлого в полной мере затрагивает и шведскую политическую сцену. Так, в ходе предвыборных дебатов в сентябре 2022 г. спикер партии «Зеленых» Мэрта Стеневи, критикуя Христианских демократов, говорила об общем «сине-коричневом» блоке, намекая на сотрудничество правоцентристских партий со Шведскими демократами, и отказалась принять предложение Йимми Окессона пожать друг другу руки и «прекратить называть друг друга нацистами». После дебатов М. Стеневи также заявила, что не откажется называть Шведских демократов теми, кого они из себя представляют на самом деле — «партией с неонацистскими корнями, которая проводит расистскую политику». В соседних северных странах, к примеру, в Дании, аналогичный барьер в отношении праворадикальных партий исчез уже к началу 2000-х гг., и еще в апреле 2006 г. Svenska Daglbladet писала: «Упрощая, можно сказать, что националистическое противодействие глобализации было наиболее сильным в Норвегии и Дании и слабейшим в Швеции. В соседних с нами странах привычная политическая картина изменилась фундаментальным образом. Здесь этого не произошло. В Норвегии и Дании политическое влияние рабочего движения и социал-демократии было серьезно ослаблено. На первый план же выдвинулись популистские протестные партии, которые разрушили традиционную партийную структуру. В Швеции же в политике по-прежнему доминируют социал-демократы, и протестные партии пока не достигли серьезного прогресса…В общественных дискуссиях на другом береге Эресунна главное место больше занимает не идейное наследие Георга Брандеса и Поуля Хеннингсена, а либертарианца Симона Списа».
Спустя почти 20 лет сходства между Социал-демократической рабочей партии Швеции во главе с Магдаленой Андерсон и «неонацистскими» Шведскими демократами во главе с Йимми Окессоном (двумя партиями, которые получили наибольшую поддержку по итогам выборов 2022 г.) становятся, однако, все более заметными: обе партии выступали противниками вступления в НАТО и углубления европейской интеграции, но, как показали недавние теледебаты 16 марта, изменили позицию в этих вопросах. Теперь обе считают, что ЕС следует стремиться к автономии в сфере обороны и безопасности; обе партии прошли путь от изгоев к вхождению в политический мейнстрим; и не в последнюю очередь обе партии поддерживают возрождение шведского «народного дома», солидарность и единство в шведском обществе, в то время как Умеренная коалиционная партия по-прежнему больше воспринимается как твердыня шведского либерализма. Это наводит на мысли о том, что будущее шведское правительство может быть сформировано ранее непримиримыми противниками, по-разному интерпретирующими шведскую историю и национальные традиции, либо нынешним правящим партиям в случае повторения успехов Шведских демократов стоит задуматься о «большом альянсе» с социал-демократами. Наглядной иллюстрацией сближения риторики и представлений шведских социал-демократов и Шведских демократов стало то, что в июле 2022 г. во время ежегодного демократического фестиваля в парке Альмедален Магдалена Андерссон в своей речи упомянула Швецию 42 раза, а Йимми Окессон — 43. Если помимо «Швеции» посчитать и употребление прилагательного «шведский», то окажется, что нынешний лидер социал-демократов в совокупности использовал их 71 раз. Ранее 6 июня 2022 г. в Национальный день Швеции на страницах социал-демократического журнала Tiden М. Андерссон также выступила с программной статьей «Поэтому я люблю Швецию», где, говоря о «сильной сегрегации» и «параллельных обществах, где многие вообще не говорят на шведском», подчеркнула, что «Швеция должна быть Швецией во всей Швеции».
При этом, критикуя Шведских демократов за связи с неонацистской средой и уличной преступностью, другие шведские партии, в частности, правящая Умеренная коалиционная партия, пожалуй, забывает и о неудобных страницах собственной истории, что показал шведский журналист Эрик Сандберг в своей недавней книге «Когда Гитлер сформировал Швецию», изданной в январе 2024 г. Так, осенью 1933 г., уже после прихода Гитлера к власти в Германии, Арвид Линдман, на тот момент глава Умеренной коалиционной партии, решительно отмежевался от Германии, нацизма и его сторонников внутри Швеции, что привело к конфликту с собственным молодежным крылом партии, которое выступало за сближение с немецкими нацистами и как следствие вышло из рядов шведских консерваторов. Главный посыл книги состоит в том, что Швеции в 1930-х гг. удалось избежать подъема экстремизма и прихода к власти радикалов за счет постепенного и осторожного сближения ранее непримиримых противников — социал-демократов с либералами и консерваторами, прежде всего Крестьянским союзом. Как отмечает Э. Сандберг, шведские консерваторы начали проводить собственные майские демонстрации, а соцдемы наряду с красными полотнищами и классовой борьбой все чаще использовали сине-желтый шведский флаг и говорили о патриотизме и общих национальных интересах, постепенно превращаясь из классовой в народную партию. Такое представление об общем политическом единении через долгий путь компромиссов и переговоров, спасшем страну от разрухи и экстремизма, все же остается несущей конструкцией политической культуры Швеции, но в условиях возросшего влияния Шведских демократов и грядущих парламентских выборов шведским политикам еще предстоит повторить на практике собственный успешный внутриполитический опыт начала 1930-х гг.
Дания и Норвегия: синдром 9 апреля и 62 дня норвежского сопротивления немецкой агрессии
Если для Дании 9 апреля 1940 г. скорее представляется событием, которое ставит неудобные вопросы об ответственности политиков и военных и до сих используется для критики правительства в различных контекстах, указывая на их бессилие, беспомощность и медлительность, как в случае с их реакцией на наступление Дональда Трампа на Гренландии, то для Норвегии сопротивление нацисткой агрессии представляется более однозначным источником национальной гордости и единения. Особенно в этом контексте стоить отметить, что в годы Второй мировой войны многие норвежцы воспринимали действия соседней Швеции как откровенно враждебные, что в своей работе «Шведское предательство 1940–1945 гг.» 2017 г. показал норвежский журналист и писатель Эйрик Войм, в первую очередь имея в виду железнодорожный транзит немецких войск через шведскую территорию в Северную Норвегию и другие районы страны, что позволило Германии разместить значительные вооруженные силы на норвежской территории. Яркое неприятие шведской позиции и в частности премьер-министра Пера Альбина Ханссона нашло отражение в послании главы норвежского правительства в изгнании Йохана Нюгордсвольда своему коллеге Андерсу Фрихагену, представителю Норвегии в Швеции от 31 декабря 1940 г., где он просил передать П.А. Ханссону, что он «плюет на этого труса» и что Ханссон лично виноват в том, что Й. Нюгордсвольд воспылал такой неутолимой ненавистью к Швеции. Неслучайно в этом контексте, что в послевоенное время Норвегия крайне негативно относилась к идее скандинавского оборонительного союза, и в сущности именно позиция Осло стала главной причиной провала этого проекта.
Норвежский философ Гуннар Скирбекк отмечает, что основу сопротивления немецким оккупационным властям составляли именно гражданские организации и проявления гражданской смелости, которых в Норвегии к 1940 г. насчитывалось около 650, то есть организованные «спортивный», «церковный» и «школьный» фронты, а не военные акции и саботаж. Причины неприятия нацистской идеологии среди основной массы населения Норвегии Г. Скирбекк видит в характеристиках норвежской модернизации, для которой были характерны мягкий нереволюционный и негероический переход от традиции к прогрессивизму, уважение к законности и верховенству права и эгалитарные идеи народного просвещения, чуждые представлениям о национальном и культурном превосходстве[7]. Причем наиболее активно сопротивлялись именно теологи и учителя, то есть те, кто принимал наиболее активное участие в формировании норвежского национального духа, в то время как полиция и деловые круги были более положительно настроены к коллаборационизму с нацистской Германией.

Дания «закрывается» от неудобного прошлого и настоящего
При этом в Дании стремление представить движение сопротивления в качестве единой и объединяющей силы сталкивается со значительными трудностями, так как в действительности датское общество в тот период было расколото. Это ярко выразил один из участников сопротивления, в частности Гражданских партизан (дат. BOPA), Таге Восс, помогавший в переправке беженцев в Швецию, в статье 1985 г.: «Правда также в том, что, несмотря на большую искреннюю поддержку в острых ситуациях, у партизан не было никакой широкой поддержки среди большей части населения, и едва ли вообще какой-либо симпатии с его стороны. Движение сопротивления в Дании никогда не поддерживалось населением. Перед партизаном, спасающимся от немцев, скорее захлопнули бы дверь, если вообще не выдали бы его оккупационным властям»[8].
Наибольший приток добровольцев в датское сопротивление, как отмечает Т. Восс, произошел именно в 1944–1945 гг., когда острой потребности в таком количестве бойцов уже не было, и многие из них лишь успели пройти предварительную огневую подготовку на стрельбищах. Наибольшее количество раненных в мае 1945 г. было связано не со столкновениями с немецкими войсками, а со случайными выстрелами и ошибками новобранцев.
Неудивительно в этой связи, что в первый после окончания немецкой оккупации сборник песен для датских школ, изданный в 1951 г., не вошла «Песня об освобождении Дании» (дат. Danmarks Frihedssang), опубликованная в марте 1945 г. в нелегальной газете «Свободная Дания» (дат. Frit Danmark), где пелось «о шторме, который очищает страну…». Говорить о феномене единого «датского племени» (дат. den danske stamme), как с легкой руки британского дипломата Джеймса Меллона порой характеризуют датчан, имея в виду как правило готовность к долгим поискам политических компромиссов и сложности с интеграцией иммигрантов, в этом случае не приходится.
Такая двойственность, по всей видимости, даже нашла буквальное отражение в вышивке, впервые опубликованной в дамском журнале в 1948 г., которая посвящена пяти годам немецкой оккупации, на которой датская память о прошлом образно оказывается расколота на две части.

Этот вышитый узор или орнамент, в котором отражены основные события, места, люди и понятия, связанные с оккупацией не только Дании, но и Норвегии, был чрезвычайно популярен в послевоенной Дании. В 1945–1970 гг. было продано около 100 тыс., а с 1958 г. он стал продаваться в полноценных наборах. Левая сторона выполнена в темных и темно-зеленых тонах и образно воплощает преступления и меры немецких оккупационных властей. К примеру, вышито название штаб-квартиры компании Shell (дат. Shellhuset) и кинотеатра Дагмар (дат. Dagmarhus), где в период оккупации располагались отделения Гестапо, а также печально известный ХИПО-корпус полицейских-коллаборационистов, сотрудничавших с Гестапо. Правая часть выполнена в ярких красных, синих и зеленых цветах и посвящена датскому движения сопротивления. Например, приведены куплеты из популярных протестных песен, имена священника Кая Мунка и псевдонимы наиболее известных участников сопротивления «Пламя» и «Цитрон», а также мемориальный парк Рюванген, место казни и захоронения бойцов датского сопротивления, где ежегодно 5 мая чтится их память и освобождение Дании от немецкой оккупации.
Если 9 апреля 2013 г. датский историк Палле Рослинг-Йенсен мог позволить себе сказать, что после окончания холодной войны этот день больше не имеет большого политического значения и больше не связан с текущими реалиями оборонной политики и отношений с союзниками, а скорее превратился в «моральный и ценностный символ», то в нынешних условиях, к примеру, в контексте планов возродить военное кораблестроение в Дании 9 апреля вновь возникает в актуальном политическом дискурсе. В конце марта и начале апреля 2025 г., когда в датские СМИ начали просачиваться первые сведения о планирующихся расходах на модернизацию датских ВМС, то оказалось, что в приоритете строительство 21 небольшого патрульного судна для датского народного ополчения, 4 кораблей для охраны окружающей среды, которые также могут выполнять задачи минных заградителей, а также специального корабля для мониторинга подводной инфраструктуры. Несмотря на то, что строительство кораблей для охраны окружающей среды — важная и давно ожидавшаяся задача, учитывая, что находящиеся в распоряжении Дании корабли этого типа уже сильно устарели и испытывают массу технических сложностей, беспокойство вызывает то, что дополнительное строительство новых патрульных кораблей для мониторинга акваторий Гренландии и Фарерских островов и новых фрегатов вновь отложено до решений саммита НАТО в июне 2025 г. Датские политики, всячески стремясь добиться строительства кораблей на датских верфях, все больше фокусируются на экономических аспектах и попытках поддержать национальных производителей вместо того, чтобы сосредоточиться на решении актуальных задач вооруженных сил, что в итоге приводит, по словам датского эксперта, к тому, что как и 9 апреля 1940 г. «датские солдаты на велосипедах столкнутся с немецкими танками». При этом милитаризм премьер-министра Дании Метте Фредериксен, чьи громкие слова часто привлекают много внимания в СМИ и выделяются на фоне северных соседей, по всей видимости, можно объяснить и скрытыми опасениями оказаться на месте своего знаменитого предшественника Торвальда Стаунинга, который вечером 8 апреля 1940 г. совместно с министром иностранных делом Петером Мунком по итогам экстренного заседания лидеров политических партий поддержал заявление о том, что «Дании ничего не угрожает».

Россия в норвежской политике памяти
Финляндия и Россия: незаконченное примирение?
Взаимная имагология России и Финляндии сложна и колоритна, а судьбы двух стран тесно переплетены, учитывая, что многие характеристики финской государственности и нации сложились, пока она была частью Российской империи. Пожалуй, наиболее утопичный и неравнодушный образ Финляндии в России создал популярный в дореволюционной России публицист и священник Григорий Спиридонович Петров в своих книгах «Страна болот», «В стране белых лилий» и статьях «Пигмаллионы Севера», «Культурный уголок» и «Край культурного труда». По мнению Г. С. Петрова, Финляндия была слишком мала, чтобы хотеть отделиться от России, а антифинская кампания только озлобила бы ее население. Г.С. Петров также замечал: «Финляндия в сравнении с Россией — слишком малая величина, чтобы в каком бы ни было случае она могла быть опасною России…»[9]. Хотя, как подчеркивают сами авторы и редакторы русского перевода, несмотря на то, что сейчас пафос книги звучит наивно, любопытно отметить, что Финляндия воспринималась не только как враг и прибежище террористов и революционеров, какой ее изображала правая печать Российской Империи, но и как некая путеводная звезда, на которую будущая Россия может ориентироваться. Финляндия, таким образом, предстает с одной стороны идеальной и утопичной «страной белых лилий», а с другой — вертепом для террористов и источником угроз для государственной стабильности и безопасности. Интересно отметить, что Евгений Шауман, осуществивший убийство генерал-губернатора Николая Бобрикова 16 июня 1904 г., в современной Финляндии воспринимается не как участник борьбы за национальное освобождение, а именно как террорист. Так, в 2004 г. премьер-министр Матти Ванханен подчеркнул, что никаких празднований в связи с годовщиной проводиться не будет.
Вместе с тем в Финляндии Россия оказывается связана с двумя «ненавистями», isoviha и ryssänviha. Первая, буквально означающая «большую ненависть»[10], связана с периодом Северной войны 1713–1721 гг., когда Финляндия была оккупирована российскими войсками, и образом финских партизан — «кивиков», «кивикесов» — сохраняет важное значение для финской идентичности, по мнению некоторых исследователей, указывая на «историческую враждебность между русскими и финнами». Другая «ненависть» связана уже с Гражданской войной в независимой Финляндии, в которой по ее итогам было сильное влияние добровольческих военизированных шюцкоров и периодически возникала угроза правого переворота. Характерным примером ryssänviha можно считать следующий отрывок из финской статьи 1920-х гг. «Даже ненависть – сила»: «Но мы, кто однажды вытеснили русских из этой страны, мы, кто знаем, какой след они оставили на этой земле, мы должны прививать и научить других ненавидеть русских так сильно и так глубоко, что источник этой ненависти не угаснет даже в миг смерти… Мы должны привить нашим детям четкое понимание того, что как бы ни могли меняться их чувства и настроения, одно должно оставаться неизменным: ryssänviha[11]. Пропаганду ryssänviha в 1920-х гг. можно рассматривать и как психологическую подготовку населения к потенциальному конфликту с Советской Россией, которая рассматривалась как угроза финской независимости.[12] Кроме того, пропаганду ryssänviha можно связать и с тем, что Финляндия в этот период стремилась показать себя в роли заслона от «красной России», изменив в свою пользу мнение великих европейских держав, сыграв на их страхах перед «большевистской угрозой», в том числе, чтобы сохранить в своем составе Аландские острова, где 97% в 1920 г. говорили на шведском языке и имели шведское происхождение.
Эти негативные образы, отчасти перекликающиеся, к примеру, со шведским rysskräck, контрастируют с произведениями национального поэта Финляндии Юхана Рунеберга. В его «Рассказах фенрика Столя», напротив, прославляется не только героизм и гордая бедность финского народа в ходе русско-шведской войны 1808–1809 гг., но и создается положительный образ русского солдата и генерала:
«Он бился с нашими людьми,
врагом пришел в наш край,
но руку ты ему пожми
и зла не вспоминай.
В могилу лег он навсегда,
навеки кончилась вражда»
Общий воинский опыт, в том числе и боевых действий против друг друга парадоксальным образом оказывается источником сближения двух народов. В этом контексте в равной степени парадоксально, что из общей памяти русских и финнов практически исчезла битва в порту Халкокари в городе Коккола 7 июня 1854 г. во время Крымской войны, когда была отражена попытка высадки британского десанта. Российская публицистика писала, что в ходе этого сражения финны «не просто, как обычно, помогают русским солдатам, но сами организуют сопротивление, призывая русских поддержать их, — и Бог вознаграждает финляндцев, обеспечивая им, как в романах, помощь русских в решительный и последний момент. В совместном сражении уже нет различий между разными народами, но всех объединяют одни и те же мысли и упоение битвой».
Тем не менее, пожалуй, наиболее важным и болезненным вопросом общего прошлого России и Финляндии остается участие последней во Второй мировой войне на стороне Германии, оккупация Карелии и участие финских войск в блокаде Ленинграда, которую в октябре 2022 г. Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом. Дискуссии российских и финских историков по различным аспектам этого конфликта и подходам СССР к выстраиванию отношений с Финляндией после окончания Второй мировой войны продолжаются до настоящего момента.

Первый год Финляндии в НАТО
Современная Финляндия же делает крайне негативные выводы из опыта холодной войны и ни в коем случае не желает оказаться в том же положении. Ради достижения этой цели Финляндия, вероятно, даже пожертвовала координацией совместного со Швецией вступления в НАТО. Северная и трансатлантическая солидарность оказывается для Финляндии менее важной, чем предотвращение повторного промежуточного положения страны между де-факто двумя блоками, в котором страна оказалась в период холодной войны. В исторической перспективе для стран Северной Европы в случае серьезных региональных кризисов более важными традиционно оказывались отношения с внешними, часто более могущественными державами, чем проявление солидарности с соседями, поэтому поведение Финляндии, пожалуй, нельзя считать чем-то необычным. К примеру, Швеция не оказала помощь Дании во время датско-прусской войны 1864 г., несмотря на данное обещание, во время Второй мировой войны Швеция отказалась предоставить убежище норвежскому королю Хокону VII, а проект послевоенного скандинавского оборонительного союза провалился из-за присоединения Дании и Норвегии к НАТО.
Любопытно, что при этом в самой Финляндии при этом еще не до конца достигнуто примирение по итогам гражданской войны 27 января – 15 мая 1918 г. (фин. kansalaissota), которую также именуют «междоусобной» (буквально «внутренней», фин. sisällissota), «освободительной» (фин. vapaussota)[13], тем самым подчеркивая, что в действительности Финляндия в 1918 г. воевала за независимость с Советской Россией, несмотря на малозначительную роль российских добровольцев и солдат в конфликте. Раскол и поляризация между финскими «красными» и «белыми» совпадает с политическим спектром Финляндии и проявляется, к примеру, в том, что электорат Левого союза, социал-демократов, Зеленой лиги, который в основном несогласен с высказыванием о том, что победа «красных» привела бы к вхождению Финляндии в состав СССР, в то время как сторонники христианских демократов, Шведской народной партии, партии национальной коалиции и Истинных финнов придерживаются противоположного мнения. Нет межпартийного консенсуса и по вопросу учреждения Дня национального примирения в память о событиях 1918 г.[14]
В отношениях между Россией и Финляндией различные аспекты Зимней войны (ноябрь 1939 – март 1940 гг.), «войны-продолжения» (июнь 1941 г. – сентябрь 1944 г.) и Лапландской войны (сентябрь 1944 г. – апрель 1945 г.) между Финляндией и Германией то отходят на второй план, то приобретают особую значимость. Так, в финском общественном неакадемическом сознании, несмотря на многочисленные нюансы и трансформации в послевоенный и постсоветский периоды, Зимняя война и «война-продолжение» воспринимаются как «фундаментально положительный и незаменимый опыт, нечто, представляющее ценность для самой сущности финской нации, то, то делает современную Финляндию такой, какая она есть».[15] Даже появление работ финских историков, где освещаются, к примеру, акты насилия по отношению к русскому населению Восточной Карелии, не смогли серьезно изменить тенденции, заданные неопатриотическим поворотом в финской памяти в 1990-х гг., которые отчасти были заложены еще в период так называемой финляндизации, которая отнюдь не означала полное доминирование советской интерпретации событий Второй мировой войны и широкую самоцензуру в финском научном и общественном дискурсах, где, напротив, одновременно сосуществовал весь спектр интерпретаций — от радикально националистических до просоветских.[16]
В современной Финляндии с учетом вступления страны в НАТО интерпретация линии Паасикиви-Кекконена как следование нейтралитету уже потеряла актуальность, в то время как возобладало ее критическое восприятие, связанное с «финляндизацией», означавшей уступки национальных интересов и добровольное ограничение свободы действий во внутренней и внешней политике. При этом возобладало восприятие «финляндизации» именно как некой объективной реальности, хотя в действительности эта идеологема направлена в первую очередь на обоснование неизбежности вступления в НАТО, недопустимости снижения военных расходов и отступления от блоковой дисциплины. Она впервые возникла либо в Австрии в 1950-х гг., либо в ФРГ в 1960-х гг., причем в самой Финляндии на исходе холодной войны этот термин вызывал крайнее раздражение, особенно когда речь шла о том, что «финляндизация» могла бы стать моделью для стран Балтии или Центрально-Восточной Европы.
«Финляндизация», таким образом, не представляет собой реальное состояние советско-финских и российско-финских отношений или некую модель успешного modus vivendi во взаимодействии малой страны и великой державы. К примеру, К. Воронов, указывая на положительные стороны и даже неизбежность «финляндизации» для малой страны, все же говорит о ее временном половинчатом характере: «Она, вероятно, будет как нельзя лучшим временным выбором, хотя вряд ли станет для нее извечным решением». Это действительно так, потому что «финляндизация» на практике представляет собой скорее пропагандистскую манипуляцию, чем-то напоминающую «закон Годвина», когда любая соседняя с Россией страна оказывается «финляндизирована». «Финляндизация» — способ искажения действительности, который направлен на то, чтобы дискредитировать попытки достичь с Россией устойчивого консенсуса, внушить невозможность для малой страны достигать взаимных компромиссов и выстраивать равноправные отношения с Российской Федерацией, или другой крупной державой, если «финляндизация» используется относительно ситуации в других регионах и пространствах.
Временный характер, о котором говорит К. Воронов, указывает на то, что «финляндизация» используется циклично. Сначала она может быть представлена в качестве положительного опыта зачастую с опорой на различные примеры из финской внешней и внутренней политики в контексте отношений с СССР времен холодной войны. Затем начинает подвергаться нарастающей критике («вместо того, чтобы давно вступить в НАТО, Финляндия даже в условиях ставшей очевидной российской угрозы продолжает курс на финляндизацию» и т.д.). К примеру, еще в годы холодной войны, в феврале 1986 г. в рецензии на книгу консервативного норвежского политика Ингвальда Годаля «Шторм на границе» 1984 г. говорилось о «продолжающейся финляндизации Швеции», которая не готова поступиться своим нейтралитетом ради помощи северным соседям, прежде всего, Финляндии. Наконец, при значительном сближении с НАТО и ЕС и вступлении в них отказ от «финляндизации» подается как значительное достижение для той или иной страны и путь к большей самостоятельности и успешному развитию. Эти этапы представляют собой единый процесс использования «финляндизации» в политическом дискурсе. Но этот процесс в конечном счете используется для дискредитации любых голосов, выступающих против милитаризации экономики и общества, за умеренность в отношениях с Россией или отказ от военного сотрудничества с НАТО и ЕС.
Неслучайно, что, к примеру, статью Г. Киссинджера в Washington Post в марте 2014 г. восприняли именно как поддержку «финляндизации» Украины, хотя сам Г. Киссинджер в своей статье не употребил это слово, а говорил лишь о «подходе, сравнимом с тем, которому следует Финляндия». В независимости от конкретного содержания, «финляндизация» как идеологема и «финляндизация» как цикличный манипулятивный дискурсивный механизм направлены на то, чтобы доказать невозможность равноправных и конструктивных отношений России с соседями или другими странами без значительной военной силы, привлечения и (или) членства в ЕС и / или НАТО. Раскрутка этого механизма возможна и в других контекстах, и во взаимоотношениях других стран, которые даже не всегда могут представлять собой крупную великую державу и малое государство. Так или иначе, «финляндизация» именно в европейском контексте призвана доказать, что вступление в НАТО — наилучший и неизбежный способ обеспечения безопасности в отношениях с Россией, иначе свобода, демократия и суверенитет малой страны оказываются под угрозой со стороны более могущественного и агрессивного соседа, лелеющего ревизионистские амбиции. «Финляндизация» была призвана в конечном счете показать, что членство в НАТО для малой страны — единственный возможный способ ведения диалога с Россией.
Так, когда в нынешних условиях «финляндизация» применяется в отношении Украины, и послевоенное урегулирование советско-финских отношений представляется как желаемое и при определенных условиях вероятное будущее, то зарубежные историки, к примеру, как Мартин Хордстедт в марте 2025 г. в эссе для Svenska Dagbladet, начинают допускать некое двоемыслие, с одной стороны, говоря о важности продолжения военной поддержки Киева для усиления его переговорных позиций, а с другой о том, что договоренности с Россией вероятно потребуют от Украины «свободы от союзов» (швед. alliansfrihet) и того, чтобы «Киев забыл и о ЕС, и о НАТО». Представляется, что эти двоемыслие и противоречащие друг другу позиции в одном тексте допускаются намеренно, и направлены на то, чтобы в дальнейшем обосновать уже безальтернативность сближения Украины с евроатлантическими структурами.

Арктика как новый регион мировой политики: стратегии западных государств
Крайнее неприятие отрицательного опыта якобы «финляндизации», таким образом, закономерно нашло отражение в речи президента США Дж. Байдена 21 февраля 2023 г. в Польше, где он заявил, что «вместо финляндизации НАТО, Путин получил НАТОфикацию Швеции и Финляндии». Аналогичный посыл очевиден и в современной финской серии из восьми документальных фильмов «Финляндия во время холодной войны», выпущенных в сентябре 2022 г., где буквально с первого кадра финский писатель Яри Терво задает риторический вопрос: «Почему Финляндия пресмыкалась и заискивала перед Лениным и, таким образом, Советским Союзом?».
Решение современного поколения финских политиков о вступлении в альянс направлено на окончательный разрыв с этой в их представлении «объективной финляндизацией» и ее якобы негативным наследием.
Условно можно заключить, что этап примирения и разрешения спорных вопросов был пропущен и сразу началась дружба Советского Союза и Финляндии, где многие болезненные аспекты прошлого отодвигались на задний план, а стороны предпочли сконцентрироваться на практических аспектах сотрудничества. Это стало возможным, с одной стороны, благодаря многочисленным проектам успешного экономического взаимодействия, а с другой — за счет преобладавшей в послевоенной Финляндии теории «бревна в стремительном потоке», согласно которой Финляндия оказалась втянута во Вторую мировую войну не по своей воле, а в силу влияния более крупных держав и логики развития внешних, не зависящих от Финляндии обстоятельств. Эту теорию финские историки первоначально не стремились опровергнуть. Клиринговая система расчетов и советские заказы, которые способствовали модернизации финской промышленности, и дружба президента Урхо Кекконена и министра внешней торговли СССР Николая Патоличева («Пато») стали воплощением особых отношений между двумя странами.
Для отношений Финляндии и России после распада СССР была характерна тенденция избегания спорных моментов в общем прошлом и концентрации на практических аспектах торговли и пограничного сотрудничества, что не в последнюю очередь было необходимо самой Финляндии в связи с переговорами о вступлении в ЕС. Отношения Финляндии и России до 2014 г. в сравнении с другими странами Северной Европы и даже всего ЕС отличались интенсивностью визитов и контактов, торговых и инвестиционных связей, но при этом российско-финские отношения также можно описать как бюрократические и технократические, так как собственно политический компонент в них практически отсутствовал за исключением общих слов о добрососедстве и выгодном экономическом взаимодействии. При этом болезненные и неудобные вопросы, мешавшие реализации конкретных проектов, Финляндия стремилась переместить на уровень ЕС, прикладывая большие усилия во время своего председательства в ЕС по выработке единого европейского подхода к выстраиванию отношений с Россией, в том числе в 1999 г., когда принималась Общая стратегия ЕС в отношении России и осенью 2006 г., когда переговоры о новом договоре об основах отношений между Россией и ЕС так и не были начаты из-за польской позиции. В условиях отсутствия необходимого единства рядах ЕС по российскому вопросу Финляндия предпочитала опираться на «дружественный прагматизм» и стабильность в двусторонних отношениях с Россией.
Две стороны также провели ряд знаковых мероприятий, призванных показать готовность к диалогу и уважение к памяти о жертвах друг друга. Среди наиболее значимых можно отметить открытие «креста скорби» в июне 2000 г., визит Б. Ельцина 1992 г. с возложением венков на кладбище Хиетаниеми, визит В. Путина 2001 г. с посещением могилы К. Маннергейма, участие президентов Финляндии М. Ахтисаари и Т. Халонен в юбилейных празднованиях Дня Победы в Москве в 1995 г. и 2005 г. Таким образом, уже в 1990-х гг. проблемы памяти о Второй мировой войне не были острыми и не вызывали радикальных реакций во внутренней политике. В дальнейшем исключением стала речи Т. Халонен в Париже в 2005 г., когда она повторила тезис о том, что Финляндия не была союзником Германии, а вела собственную войну против СССР. Таким образом, обострение вопросов коллективной памяти о Второй мировой войне в отношениях России и Финляндии скорее выступает производным от общей атмосферы российско-финляндских отношений. Сейчас, когда Финляндия, которая после 2014 г. стремилась играть роль посредника в диалоге России с США и евроатлантическими структурами, открыто подключается к экономической и военно-политической конфронтации с Россией, официальные лица Финляндии начинают проводить аналогии между российско-украинским конфликтом и Зимней войной 1939–1940 гг. К примеру, президент Финляндии С. Ниинисте в январе 2023 г. заявил: «Невозможно не задуматься о схожести, которую нынешняя ситуация имеет с нашей Зимней войной, когда Советский Союз предполагал, что пройдет маршем в Хельсинки всего за две недели». Интересно отметить, что после распада СССР в Финляндии также была возобновлена традиция отмечать годовщину парада освободителей 16 мая 1918 г. (особо крупный парад прошел в 2018 г.) и вновь стали популярны «белые» трактовки войны 1918 г., а сторонники подобной интерпретации финской истории именуют бойцов противостоящего лагеря не иначе как ryssä[17]. Россия, таким образом, остается и значимым фактором внутреннего национального примирения в самой Финляндии.
Можно ожидать, что как следствие общего значительного ухудшения отношений России с ЕС в общественно-политическом дискурсе Финляндии могут возрождаться ранее забытые негативные аспекты образа России, хотя в обоих странах уже накоплен значительный объем подробных и качественных исторических исследований и проведенных открытых дискуссий. Иными словами, можно сказать, что Россия и Финляндия в целом достигли примирения, так как сам этот процесс не потребовал пересмотра существенных параметров национальной и коллективной идентичности и предусматривал возможность сохранения этой памяти как источника патриотизма и национальной гордости в обеих странах. В то же время образ России в Финляндии имеет намного более глубокие корни и связан далеко не с только событиями Второй мировой войны и может использоваться в самых разных контекстах и с разными целями в зависимости от внешних обстоятельств и общего характера отношений России, США и ведущих европейских стран. К примеру, в онлайн-обсуждениях на форуме Suomi24 в 2001–2017 гг. «российская угроза» использовалась как для обоснования присоединения к НАТО, так и, напротив, для сохранения нейтралитета. Такое двойственное восприятие отражается и в эволюции режима функционирования российско-финской границы, которая тщательно охранялась даже в период советско-финской дружбы, после распада СССР, напротив, стала областью широкого пограничного сотрудничества и трансграничных контактов, а сейчас вновь подвергается секьюритизации. В глазах старшего поколения Финляндии граница с Россией и сама Россия до сих пор представляются в основном чем-то чуждым, связанным со страхом и войной.
Фраза У. Кекконена «чем лучше у Финляндии отношения с Россией, тем лучше ее отношения с Западом» похоже в настоящий момент имеет мало общего с действительностью и в условиях масштабного кризиса отношений России с евроатлантическим структурами Финляндия больше не видит для себя пространства для проявления особой ответственности и роли посредника.

Финский компонент скандинавского характера
Северный неонацизм и правый радикализм в прошлом и настоящем
Благодаря сильным левым движениям в Швеции и других странах Северной Европы неонацистские организации и нацистское прошлое в шведской истории и политике, а также жизни и карьере отдельных людей, скорее всего, еще долго будут оставаться в центре внимания. Недавним примером этого стала публикация в сентябре 2024 г. в издательстве Verbal небольшой брошюры-комикса «100 лет шведского нацизма» в связи с тем, что в 1924 г. в Швеции была создана первая нацистская партия «Шведский национал-социалистический союз свободы». В аннотации к изданию, в частности, указано, что Швеция — страна, где 100 лет «непрерывно существуют нацистские организации». При этом неонацизм как в Швеции, так и во всей Северной Европе не представляет собой единое монолитное движение, а скорее сеть кружков, объединений и отдельных экстремистов, которые при этом могут враждовать друг с другом.
Так, шведские правые экстремисты, в частности известный наемник-неонацист Микаэль Скилт, сыграли важную роль в вербовке других иностранных боевиков в ряды сначала батальона, позднее полка и бригады «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ). Шведы при этом, по всей видимости, составляли третью по численности этническую подгруппу в составе этой неонацистской организации наряду с представителями других 16 национальностей (отдельные шведы, однако, могли намеренно скрывать свою национальную принадлежность). В то же время другие неонацистские формирования Швеции, к примеру, Северное движения сопротивления (СДС) не разделяли такой активной проукраинской позиции и даже угрожали М. Скилту и его сторонникам, которые сами предпочитали характеризовать свои взгляды как «консервативные» и «националистические» и отвергали приписываемые им в СМИ ярлык нацистов.
СДС же в отношении конфликта на Украине заняло довольно неопределенную позицию, однозначно не поддерживая ни одну из сторон и опасаясь расколов внутри движения. Расхождения между умеренным крылом и сторонниками использования политического насилия внутри этой организации обычно усиливаются после неудачных попыток участия в различных выборах. Так, на выборах в Европейский парламент в 2019 г. СДС получило лишь 644 голоса. СДС вновь предприняло попытку принять участие в шведских парламентских выборах в сентябре 2022 г., набрав всего лишь 847 голосов (0,01%), несмотря на высокий уровень цифровой, так и уличной активности. В этом контексте новое размежевание по линии Украина — Россия может еще больше снизить сплоченность и так довольно ограниченного лагеря шведских неонацистов.
Шведские демократы, представленные в Риксдаге, после 24 февраля 2022 г. активно стремятся отвести внимание общественности и других политиков от предыдущих связей с Россией, в частности, поездок ряда членов партии в качестве наблюдателей на российские выборы и конституционный референдум 2020 г. и выступлений в российских СМИ как Sputnik и Russia Today. Так, по данным исследования организации Votewatch, c 2019 г. в Европейском парламенте Шведские демократы чаще других шведских партий выступают за более критичные варианты ограничительных мер в отношении России, но в то же время не слишком активно продвигают меры по поддержке Украины. В Финляндии в рядах Истинных финнов сторонники сотрудничества с Россией после начала СВО также оказались в маргинализованном положении. Один из ведущих и наиболее радикальных членов партии Юси Халла-ахо, который в своей поддержке Киева и призывах к убийству российских военнослужащих опережал не только финский политический мейнстрим, но и коллег по партии, стремительно набрал политический вес. В свою очередь, Мика Ниикко, председатель комитета Эдускунты по вопросам внешней политики, призывавший в начале февраля 2022 г. к диалогу с Россией и запрету на членство Украины в НАТО, был вынужден покинуть свой пост.
При этом страны Северной Европы по-прежнему видят главным образом лишь военный путь преодоления нынешнего конфликта между Россией и Украиной, продолжая выступать на стороне Киева. Так, известный шведский дипломат Ян Элиассон, активно участвовавший в ряде посреднических миссий и осенью 2016 г. лично встречавшийся с президентом России, в октябре 2022 г. заявлял, что мирный способ завершения конфликта не просматривается. К сожалению, страны Северной Европы в целом продолжают придерживаться этой точки зрения.
***
В истории редко что-либо бывает черно-белым, а память о прошлом не должна препятствовать рациональному анализу текущих международных реалий. Как уже было показано на примере Швеции, излишнее морализаторство и активное насаждение культа «шведской вины» и самобичевания, особенно широко развернувшиеся на протяжении 1990-х гг. и 2000-х гг. и фактически приравнявшие историческую ответственность Швеции и Германии за ход Второй мировой войны, привели, с одной стороны к тому, что в шведском Риксдаге впервые в 2010 г. с 5,7% голосов оказались Шведские демократы, партия с действительно неонацистскими корнями, а с другой — к тому, что в сознании новых поколений шведов «выветрились» представления о положительных сторонах и важном значении нейтралитета для внешней политики и безопасности страны. Такое самобичевание, драматически сгущающее краски при взгляде на собственную историю, со временем превратились в своеобразное проявление шведского национализма и парадоксальным образом предмет национальной гордости.
Если в самих шведских учебниках фактически говорится, что Швеция не была нейтральной в годы Второй мировой войны и, по словам уже упоминавшейся М.-П. Боэтиус, «вела себя как оккупированная страна, не будучи оккупированной», трусливо даже без особого принуждения идя на уступки нацистскому Берлину, то какие ценность и моральный смысл могут быть в сохранении такого уродливого «нейтралитета»? Не лучше ли полностью отринуть его и на новых условиях в качестве полноценного члена НАТО включиться в евроатлантическое сообщество и попытаться очистить себя от негативного наследия, искупить его служением сообществу демократических государств?
По всей видимости, такие пертурбации исторической памяти повлияли на мышление нынешнего поколения шведских и других североевропейских политиков. Отрицание и разрыв с предыдущими наработками шведских историков, в частности, крупной серией исследований «Швеция в период Второй мировой войны» (швед. Sverige under andra världskriget, SUAV) Института истории при Стокгольмском университете, которая проводилась в 1966–1975 гг. и в рамках которой профессионально сформировалось целое поколение шведских историков, привели к тому, что нейтралитет перестал восприниматься как прагматичный и практический инструмент обеспечения безопасности и национальных интересов такого малого государства как Швеция, а «перетек» в сферу ценностей, рассуждений и представлений о шведской идентичности, того, какие ценности Швеция может проецировать и что может принести в мировую политику и глобальное управление. «Реализм малого государства» оказался если не забыт, то ушел на задний план под потоком исследований и книг о связях Швеции с нацистской Германией и отношении к Холокосту, порой выполнявшихся не профессиональными академическими историками, а журналистами и общественными активистами. При этом пусть в рамках парадигмы «реализма малого государства» шведские историки и не затрагивали многие неудобные вопросы, включая Холокост, связи с нацистской идеологией и шведские лагеря для беженцев и политически неудобных активистов, но ее главный посыл, как его сформулировал историк Альф Йоханссон в 2006 г., все же был прагматичным и ценным: «Столкнувшись с бескомпромиссной и агрессивной великой державой у Швеции не оставалось какой-либо другой альтернативы кроме как подчиниться ее требованиям. С политической точки зрения это представлялось разумным, так как сохраняло мир…»[18].
Несомненно, эти слова свидетельствуют о том, что Швеция, как и большинство европейских государств, шла на умиротворение нацистского агрессора, но вместе с тем такая интерпретация оставляла и пространство для продвижения в шведском общественном сознании представлений о том, что шведский «нейтралитет» пусть и в сильно измененном виде, сведшемся к тому, что обозначают «военным неприсоединением», все же может продолжать способствовать миру и стабильности в Скандинавско-Балтийском регионе. Швеция экспортировала железную руду и подшипники в нацистскую Германию, но и помогла в спасении датского физика Нильса Бора и доставке его на свою территорию 30 сентября 1943 г., который впоследствии принял участие в Манхэттенском проекте. Швеция, опасаясь оккупации финской территории советскими войсками и их выхода к шведской границе, все же поспособствовала достижению Московского перемирия между СССР и Финляндией.
Эти примеры показывают, насколько важным может быть трансформация исторической памяти для будущих внешнеполитических и военных решений государства, примирения или возобновления вражды между ними. К сожалению, прошлое часто становится пространством для различных конфликтов, источником для мифотворчества, и, претерпев множество историографических, культурных и общественных трансформаций, перестает быть надежным ориентиром для будущего. Задача историков и исследователей-международников в том, чтобы не допустить подобного, подробно анализируя как направления осмысления прошлого как в собственной стране, так и память и ее трансформацию в других государствах, учитывая не только взгляды элит, но и общественные настроения.
Любопытно, что молодой Улоф Пальме 21 февраля 1949 г. на страницах Svenska Dagbladet, опираясь на свои впечатления от учебы в США, полагал, что послевоенное американское поколение выступит надежным путеводителем для возрождающейся после бедствий мировой войны Европы: «Война, по всей видимости, прошла мимо рядового американца, необычайным образом все выглядит так, будто ее для него и не существует. Разумеется, о ней говорят. Некоторые говорят о ней как шведские призывники, которые оказались на маневрах в Норрланде… Война безусловно расширила кругозор американской молодежи, дала ей лучшее понимание международных проблем, ответственности Америки и ее значения в мировом развитии, но это молодое поколение не отмечено войной в европейском смысле этого слова. Некоторые могут счесть это следствием отсутствия глубоких духовных рассуждений и чувств, но стоит спросить себя — не используются ли в этом случае чисто субъективные суждения и оценки. С другой стороны, есть убедительные свидетельства жизненной силы американской нации и ее способности к самоисцелению, это факт, который необходимо принять и опираться на него, так как именно это американское военное поколение, миллионы фермеров, студентов и рабочих в силу своей любви к жизни будут на необозримое будущее светом и источником норм для традиционной культурной элиты в дезориентированной Западной Европе». Оказался ли этот прогноз шведского политика верным и как нынешние противоречия между ЕС и США и конфликт на Украине скажутся на сознании будущих европейских и американских поколений еще предстоит оценить.
1. Цит. по Комаров А. А. Шведский нейтралитет как элемент шведской идентичности: взгляд из России. Шведы. Сущность и метаморфозы идентичности. Москва, РГГУ, 2008, сс. 145-154.
2. Скирбекк Г. Норвежский менталитет и модерность. ¬Москва, РОССПЭН, 2017, 197 с.
3. Цит. по Hauge H. Danmark. – Aarhus Universitet, Tænkepause 8, 2013, 60 s. Точные слова С. Унсет выглядят следующим образом: «Den modern danske nation er skabt ved at vende Tyskland ryggen og samtidig sænke paraderne nordover» (s. 47).
4. Ibid, s. 57
5. Höjeberg P. Förhållningssätt till det outhärdliga: Klas Åmark: Att bo granne med ondskan. // Signum, № 8, 2011.
6. Lottas L. «Bortom alla horisonter är öar» – Stig Dagermans ”Upptäcktsresanden” mot bakgrund av August Strindbergs kartografi och Sven Hedins geografi. // Samlaren, Tidsskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Årg. 22, 2001, ss.62-73.
7. Скирбекк Г. Норвежский менталитет и модерность. ¬Москва, РОССПЭН, 2017, 197 с.
8. Цит. по Voss T. Dengang under besættelsen..., ss. 7-14. // Dengang under besættelsen – ubekvemme historier om en splittet nation – Københavns Bogforlag, 1985, 203 s.
9. Цит. по: Петров Г. Финляндия, страна Белых Лилий. – Европейский дом, Санкт-Петербург, 2004. С. 19.
10. Куяла А. Финляндия и Россия как страны-соседи с ранних эпох до 1772 года. Русский Сборник: исследования по истории Роcсии \ Ред.-сост. О. Р. Айрапетов, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Т. XVII: Финляндия и Россия. М.: Модест Колеров, 2015, сс. 9-55.
11. Цит. по: Klinge M. The Finnish Tradition. Essays On Structures and Identities in the North of Europe – Suomen Historiallinen Seura (SHS), 1993, pp. 238-239.
12. Ibid, pp. 244-247.
13. Витухновская-Кауппала М. В поисках национального примирения: память о гражданской войне в Финляндии. // Нева, 2022, № 5, сс. 156-178.
14. Ibid.
15. Kinnunen T., Jokisipilä M. Shifting Images Of «Our wars» Finnish Memory Culture of World War II. // Kinnunen T. & Kivimäki V. (eds) Finland in World War II: History, Memory, Interpretations. History of Warfare vol. 69. Leiden: Brill., 2012, pp. 435-482.
16. Ibid.
17. Витухновская-Кауппала М. В поисках национального примирения: память о гражданской войне в Финляндии. // Нева, 2022, № 5, сс. 156-178.
18. Цит. по Östling J. Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. – Atlantis, 2008, 392 s.
(Голосов: 5, Рейтинг: 5) |
(5 голосов) |
Осло опасается использования Москвой позитивного опыта взаимодействия в целях пропаганды и продвижения национальных интересов
Парадоксы шведской политикиВ шведском обществе свобода слова и вероисповедания не обеспечивает свободу от критики или гарантию того, что чьи-то религиозные чувства не буду задеты самым грубым образом
Первый год Финляндии в НАТОВступление Финляндии и Швеции окончательно делает Скандинавию единым стратегическим целым и сформирует новый, северо-восточный, фланг Альянса
Как Норвегия встретила 80-летие освобождения Восточного Финнмарка Красной Армией от нацистской оккупацииБойкот для России, благодарность для Британии и США, персональное приглашение для Зеленского
Арктика как новый регион мировой политики: стратегии западных государствРабочая тетрадь № 90 / 2024
Дания «закрывается» от неудобного прошлого и настоящегоКак сегодня конструируется и создается «датскость» и «датская история», предназначенные для трансляции на широкую публику?