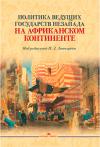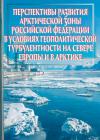Риски евразийской интеграции Киргизии: как их минимизировать?
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
(Нет голосов) |
(0 голосов) |
Д.полит.н., главный научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России
В настоящее время Киргизия находится в процессе присоединения к Таможенному Союзу (ТС) ЕврАзЭС, а также к Единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана (напомним, что Киргизия уже давно является членом ЕврАзЭС). Однако процесс интеграции Киргизии сопряжен с определенными рисками, которые стали еще более очевидными в связи с усилением политического кризиса в стране в октябре 2012 г. Остановимся подробнее на этих рисках и путях их преодоления.
В настоящее время Киргизия находится в процессе присоединения к Таможенному Союзу (ТС) ЕврАзЭС, а также к Единому экономическому пространству России, Белоруссии и Казахстана (напомним, что Киргизия уже давно является членом ЕврАзЭС).
Решение о начале процедуры присоединения к ТС было принято киргизским правительством 11 апреля 2011 г. 19 октября 2011 г. решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС была создана рабочая группа по вопросу участия этого государства в ТС. 18 сентября 2012 г. на очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии был утвержден план мероприятий по присоединению Киргизии к ТС. Визит В.В. Путина в Киргизию 20 сентября 2012 г. привел к ускорению процесса включения страны в евразийские интеграционные структуры. Сами киргизские власти уже давно к этому готовы. Еще в 2009 г. президент К. Бакиев сделал заявление о предстоящем вступлении республики в ТС. В 2011 г. нынешний президент А. Атамбаев, в то время занимавший пост премьер-министра, заявил, что «начиная с 1 января 2012 г. Кыргызстан станет частью Таможенного Союза».
Однако процесс интеграции Киргизии сопряжен с определенными рисками, которые стали еще более очевидными в связи с усилением политического кризиса в стране в октябре 2012 г. Остановимся подробнее на этих рисках и путях их преодоления.
Визит В.В. Путина: гидроэнергетика как еще одна ставка в «новой большой игре»?
В ходе упомянутого визита В.В. Путина в Бишкек Россия пошла на уступки Киргизии в плане списания долгов и оказания экономической помощи при строительстве гидроэлектростанции «Камбарата-1» и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Москва уступила даже при разделе акций (50/50) этих объектов – ранее она настаивала на получении 75% акций в обоих проектах. Российская экономическая помощь необходима Бишкеку, поскольку страна находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. В обмен на эту помощь Россия получила продление срока пребывания на киргизской территории своих баз, формально ставших одной интегрированной базой, до 2032 г. Необходимость присутствия российских войск в Киргизии очевидна: ситуация в регионе очень напряженная, а после вывода войск НАТО из Афганистана в 2014 г. станет еще более напряженной. Кроме того, базы служат определенной гарантией от излишнего внешнего давления, прежде всего, со стороны соседнего Узбекистана, особенно в вопросах энергетики.
Россия сталкивается со следующей дилеммой: помощь Киргизии в использовании гидроэнергии в рамках евразийской интеграции приведет к серьезным региональным проблемам, отсутствие такой помощи сохранит кризисную ситуацию в экономике этой страны.
Несмотря на очевидную своевременность достигнутых договоренностей, в них есть один аспект, который указывает на возможность нового обострения всего комплекса отношений Россия–Киргизия–Узбекистан–США. Накануне визита В.В. Путина Ташкент выразил непримиримое отношение ко всем гидропроектам, которые могут привести к уменьшению поступления воды в Узбекистан, причем президент И. Каримов упомянул в Астане даже о возможной «водной войне». В этом плане позицию Ташкента поддержал Ашхабад. Узбекистан попытался найти понимание и в Казахстане. В результате могут резко усилиться противостояние Москвы и Ташкента, а также застарелые конфликты Ташкента с соседями (прежде всего, с Таджикистаном и Киргизией) по водной проблематике. Еще более важным в этом плане представляется недавнее сближение Ташкента с Вашингтоном, которое привело к выходу Узбекистана из ОДКБ летом 2012 г. В этой ситуации любые противоречия по поводу гидроресурсов между Россией и Киргизией, с одной стороны, и Узбекистаном и США, с другой, способны вылиться в затяжной конфликт во всем регионе.
Итак, крупнейшим риском евразийской интеграции Киргизии является риск геополитический, а именно усиление противостояния по линиям Россия–США и Узбекистан–Киргизия (потенциально в связке с противостоянием Узбекистан–Таджикистан). Этот риск способен серьезно усилить общие проблемы безопасности региона, которые могут возникнуть после 2014 г. Однако ничего не делать для России тоже не выход, так как вода – основной ресурс развития для деградирующей экономики Киргизии.
Таким образом, Россия сталкивается со следующей дилеммой: помощь Киргизии в использовании гидроэнергии в рамках евразийской интеграции приведет к серьезным региональным проблемам, отсутствие такой помощи сохранит кризисную ситуацию в экономике этой страны.
Продолжение кризиса киргизской государственности
По американскому «индексу несостоявшихся государств» (2011 г.) Кыргызстан – самое проблемное постсоветское государство (сходные оценки дает и «Политический атлас современности» МГИМО [1]). После двух революций (свержение А. Акаева в 2005 г. и К. Бакиева в 2010 г.) в этой стране налицо кризис государственности. Он проявляется, прежде всего, в слабости правоохранительных органов, порожденной недофинансированием и коррупцией. Демократические механизмы начинают давать сбои, тогда как механизм переворота отработан до мелочей. В условиях клановой системы и противостояния «Север–Юг» политические лидеры легко мобилизуют большую толпу народа из односельчан или выходцев из того же региона. Их сажают в автобусы и везут в столицу. Там к этой толпе за деньги присоединяется масса безработных и обнищавших жителей. Возможно также участие представителей криминальных структур, в том числе наркоторговцев. Затем толпа, часто вооруженная камнями и палками, идет на штурм Дома правительства, и если ей удается избить и разогнать довольно слабые полицейские силы, происходит очередной переворот. Пикантность ситуации заключается в том, что организация такой «революции» – дело относительно дешевое. Переворот оказывается даже дешевле полноценной кампании по выборам в парламент (а в Киргизии парламент всегда играл и играет более серьезную роль, чем в других государствах Центральной Азии). Поэтому любая сторона, недовольная ситуацией с распределением власти, может легко инициировать очередную «революцию».
Если Киргизия интегрируется в евразийские структуры, то эти структуры и Россия как их основной спонсор должны будут взять на себя ответственность за перманентный внутриполитический кризис в этой стране.
Именно это и произошло 3 октября 2012 г.: представители парламента с Юга совершили попытку переворота. В этот день на площади Ала-Тоо в Бишкеке депутатами Жогорку Кенеша от партии «Ата-Журт» (она опирается на южан, ранее была тесно связана с силами, поддерживавшими свергнутого президента К. Бакиева), Камчыбеком Ташиевым, Талантом Мамытовым и Садыром Жапаровым был организован митинг под лозунгом «За национализацию Кумтора». Кумтор – это золотоносное месторождение, принадлежащее канадскому инвестору и являющееся одним из основных источников наполнения бюджета государства. Очевидно, что национализация данного предприятия привела бы к ухудшению и без того катастрофической экономической ситуации в стране.
Заявление премьер-министра Джанторо Сатыбалдиева о недопустимости национализации собственности иностранной компании и сообщение о намерении парламента поддержать позицию премьера вызвали резкий накал страстей у митингующих. Их собралось примерно 600–1000 человек. В какой-то момент часть из них бросилась к Дому правительства. На этот раз революции не произошло, так как штурм был отбит бойцами ОМОН и конной полицией. Однако за арестами депутатов, инициировавших митинг и, по данным обвинения, призывавших к смене власти насильственным путем, последовали новые волнения на юге страны с перекрытием магистрали, связывающей Юг и Север. Очевидно, что даже в такой «скромной», по киргизским меркам, революционной ситуации серьезно пострадала и так находящаяся в тяжелом состоянии экономика, а также были напуганы потенциальные инвесторы.
Здесь мы сталкиваемся со второй дилеммой евразийской интеграционной политики России: если Киргизия интегрируется в евразийские структуры, то эти структуры и Россия как их основной спонсор должны будут взять на себя ответственность за перманентный внутриполитический кризис в этой стране.
Риски евразийской экономической интеграции Киргизии
В целом в Киргизии сложилась весьма специфическая экономическая модель, сильно отличающая эту страну от других стран Центральной Азии.
Некоторые характерные для Киргизии направления экономической деятельности вполне позитивны в плане интеграции с Россией, Казахстаном и Белоруссией. Например, текстильная промышленность республики, благодаря дешевой, в основном женской, рабочей силе, переживает расцвет, тогда как в целом на постсоветском пространстве (за исключением Туркменистана и Узбекистана) она находится в упадке. Прямой экспорт швейных изделий, произведенных на территории Киргизии, достиг 1,1 млрд долл. в год или 22% ВВП страны.
Однако не все специфические моменты экономической жизни Киргизии столь же позитивны для интеграции.
Во-первых, Киргизия уже сейчас является одним из основных «узлов» распределения по постсоветскому пространству китайской продукции (причем она чаще всего попадает в страну нелегально, о чем свидетельствует, например, чудовищное расхождение между данными китайской и киргизской официальной статистики об объемах торговли). Локомотив этой торговли – мелкий бизнес. Численность мелких торговцев, получающих выгоду от реэкспорта товаров, достигла 800 тыс. человек при пятимиллионном населении страны. Для 90% этих торговцев основными рынками являются Россия и Казахстан.
Кстати, и здесь лицо киргизской экономики преимущественно женское, так как именно «слабый пол» преобладает среди челночных торговцев. Одним из «хабов» этой торговли является Дордой, крупнейший торговый рынок в Центральной Азии, ежегодный объем услуг которого достигает 1 млрд долл. или 20% ВВП страны. Вхождение Бишкека в Таможенный Союз может привести к резкому росту де-факто контрабанды китайских товаров. Соответственно, оно ускорит и так имеющее место сползание постсоветских стран на позиции «сырьевых придатков» КНР.
Принятие Киргизии в евразийские структуры приведет к резкому усилению их проблем, тогда как непринятие не решит проблем этого государства, и они будут и дальше воздействовать на Россию и Казахстан даже через государственные границы.
Во-вторых, в Киргизии действуют относительно низкие пошлины на ввозимые товары (примерно 50% от российских). Интеграция за счет увеличения пошлин приведет к резкому повышению цен на большинство импортируемых товаров. Может также произойти то, что уже имело место в Казахстане, – резкий скачок цен, выходящих на российский уровень (в России достаточно высокие цены по сравнению с другими странами СНГ). Даже в относительно богатом Казахстане инфляция вызвала всплеск недовольства и националистических настроений, направленных против России. В условиях, когда огромные массы населения Киргизии еле сводят концы с концами, скачок цен в результате интеграции с Россией может привести к новой революции.
В-третьих, Киргизия уже сейчас является одним из крупнейших (наряду с Таджикистаном и Узбекистаном) доноров трудовых мигрантов для России и Казахстана. В этих странах работают, по разным оценкам, от 400 тыс. до 1,5 млн граждан (1, 2) из пятимиллионного населения (последняя оценка явно завышена). Соответственно, есть риск, что интеграция приведет к снижению степени контролируемости миграционных потоков и к их взрывному увеличению. Ведь общее экономическое пространство предполагает свободное передвижение рабочей силы и равные права работников для всех государств-членов.
В-четвертых, как отмечается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в случае открытия границ России и Казахстана в направлении Киргизии и Таджикистана может произойти резкое увеличение объемов транспортировки наркотиков по маршруту Афганистан–Таджикистан–Киргизия–Казахстан–Россия–Восточная и Северная Европа («Северный путь»). Уже сегодня Россия как крупнейший потребитель афганского героина теряет, по официальным данным, до 30 тыс. жизней в год.
Все описанные выше риски представляют для России еще одну политическую дилемму: принятие Киргизии в евразийские структуры приведет к резкому усилению их проблем, тогда как непринятие не решит проблем этого государства, и они будут и дальше воздействовать на Россию и Казахстан даже через государственные границы.
Как минимизировать риски вступления Киргизии в евразийские структуры?
Если принятие Киргизии в евразийские структуры будет сопровождаться политикой России и соответствующих организаций (например, Евразийской экономической комиссии), направленной на решение проблем Бишкека, описанные выше риски удастся минимизировать. Если же Киргизия вступит в евразийские структуры, а ее проблемы решаться не будут, высока вероятность, что идея интеграции постсоветских государств будет надолго дискредитирована. Как видим, ставка высока. Однако следует понимать, что решение всех проблем Киргизии потребует очень серьезных усилий и материальных вложений.
Меры, направленные на решение киргизских проблем, целесообразно осуществлять поэтапно.
Первый этап – оказание помощи в налаживании работы, модернизации и укреплении силовых структур. Прежде всего, естественно, помощь нужна тем структурам, которые заняты борьбой с транспортировкой наркотиков. Необходимо содействовать мерам по снижению степени коррумпированности и повышению эффективности государственного аппарата, особенно таможни. Все это позволит справиться с угрозой превращения страны в «несостоявшееся государство». Важно также наладить контроль над миграционными потоками, причем это должно быть сделано, прежде всего, внутри России.
На втором этапе потребуются экономическая помощь, инвестиции и займы, которые позволят преодолеть последствия роста цен в случае интеграции. Меры по адаптации к новой ситуации будут особенно необходимы для челночной торговли и текстильной промышленности.
Если Киргизия вступит в евразийские структуры, а ее проблемы решаться не будут, высока вероятность, что идея интеграции постсоветских государств будет надолго дискредитирована.
Третий, наиболее сложный блок, касается связки гидроресурсов Киргизии с геополитическими проблемами. В.В. Путин, выступая в Бишкеке, справедливо отметил, что российская помощь в плане строительства гидроэлектростанций не должна идти в ущерб интересам Узбекистана. К этому можно добавить еще и интересы крупных внерегиональных игроков (прежде всего, США и КНР), которые могут заблокировать строительство ГЭС на любом этапе, если почувствуют давление на свои интересы посредством «водных инвестиций».
Чтобы этого не произошло, вопрос строительства гидроэлектростанций в Киргизии и Таджикистане, на наш взгляд, должен решаться «пакетом». А чтобы такой «пакет» состоялся, нужно создать консорциум с участием четырех центральноазиатских государств (Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана) и четырех внерегиональных игроков (России, Китая, США и ЕС). Причем внерегиональные игроки должны предоставить Узбекистану экономическую компенсацию за его потери в виде сокращения объемов поступающей воды, а также дать Ташкенту гарантии, что вода не будет использоваться против него в качестве оружия.
1. Политический атлас современности: Опыт многомерного статистического анализа политических систем современных государств. М.: Изд-во МГИМО-Университет, 2007. C. 246.
(Нет голосов) |
(0 голосов) |