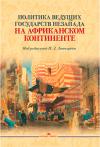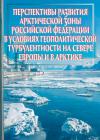На первый взгляд, ничто в весьма популярной сейчас концепции многополярности не позволяет связать ее с идейным наследием Карла Шмитта — одиозного, но при этом весьма влиятельного теоретика права и политики ХХ века. Ключевые подходы многополярности общеизвестны — суверенитет, равноправное сотрудничество, невмешательство во внутренние дела. Трудно даже представить, чтобы деконструкция концепции многополярного мира привела к К. Шмитту и его трудам, например, к его работе «Порядок большого пространства в правах народов и запрет на интервенцию пространственно чуждых сил».
Ассоциации с шмиттеанскими идеями могут возникнуть в тот момент, когда концепция многополярности приобретает четко выраженный региональный характер. В последнее время именно этот аспект выходит на первый план, особенно с учетом повышения внимания к архитектуре евразийской безопасности.
Биография и обширное научное наследие Карла Шмитта не перестают привлекать новые поколения исследователей, несмотря на национал-социалистическое прошлое ученого, состоявшего в НСДАП. Интерпретируя его работы, исследователи зачастую выделяют отдельные его идеи и используют их как основание для критики западных либеральных демократий и миропорядка.
В историю международно-правовой мысли К. Шмитт вошел в том числе и в связи с предложенной им в самом начале Второй мировой войны концепцией порядка больших пространств. Он видел в ней жизнеспособную альтернативу англосаксонскому либеральному интервенционизму и универсализму. Именно эти силы мыслитель винил в хаосе межвоенной эпохи, посеянном под прикрытием громких лозунгов о благе человечества. Кроме того, К. Шмитт заявлял о «структурном соединении внутригосударственного либерализма и международно-правовой гегемонии западных демократий», отмечая двойные стандарты «в двадцатилетней истории защиты прав меньшинств Версаля-Женевы». Это делает его концепцию близкой по смыслу подходам современной российской дипломатии, отвергающей «миропорядок, основанный на правилах».
Второй элемент сходства — акцент на защищенности от вмешательства внешних игроков во внутренние дела стран евразийского региона. Запрет на интервенцию чуждых сил можно назвать краеугольным элементом шмиттеанского понятия «большого пространства».
Хотя запрет на интервенцию чуждых сил сближает российское видение проблематики евразийской безопасности с шмиттеанской идеей порядка больших пространств, между ними существуют серьезные различия. Отечественный подход предполагает равноправное, недискриминационное участие всех государств региона в создании и поддержании этой архитектуры, в то время как тезис К. Шмитта о порядке больших пространств носит иерархический характер. Во многих своих аспектах он представляет вызов российской официальной трактовке идей многополярности и евразийской безопасности.
Во-первых, работа о порядке больших пространств — одно из самых одиозных исследований в списке трудов К. Шмитта. Оно изобилует хвалебными сентенциями в адрес фюрера и нацистской Германии. Недаром К. Шмитта его критики именуют «коронованным юристом Третьего рейха». Ассоциации с К. Шмиттом, навязываемые читательской аудитории в англоязычных публикациях о российской внешней политике, используются их авторами для дискредитации идеи многополярности и инициативы по созданию Большого евразийского партнерства.
Во-вторых, трактат К. Шмитта о «больших пространствах» заставляет задуматься о том, какую модель возможно реализовать — справедливый многополярный мир, основанный на Уставе ООН, или шмиттеанский «плюриверсум» больших пространств? Равным образом можно задать и следующий вопрос: какая же модель из этих двух в действительности претворяется в жизнь в настоящее время?
В-третьих, трактат о больших пространствах ставит вопрос о способах установления и эффективного поддержания разграничительных или «дружеских» линий (amity lines), уберегающих разные большие пространства от взаимных интервенций.
«Дружеские линии» — неотъемлемый элемент шмиттеанской концепции многополярности. В этом аспекте данную концепцию можно расценивать как результат переосмысления автором опыта европейских колониальных держав. Раскритиковав этот опыт, К. Шмитт не отверг колониализм в принципе, а лишь предложил его более современную для своей эпохи и более изощренную версию. Таким образом, шмиттеанская версия многополярности, при внешнем сходстве отдельных элементов, по своей сути полностью противоречит российскому видению многополярного мира.
В соответствии со логикой рассматриваемой теории, «дружеские линии, в различных проявлениях пространственно и в переносном смысле лежат в основе каждой международно-правовой системы». К. Шмитт рассуждал в своем трактате о больших пространствах и пакте Молотова-Риббентропа в качестве новой дружеской линии, проведенной накануне Второй мировой войны. Этот фрагмент его исследования служит лучшим подтверждением серьезных рисков, сопряженных с попытками проведения «дружеских линий» в самой Европе. Несмотря на то, что автор вряд ли ставил перед собой такую цель, он положительно оценивал это соглашение, что дискредитирует теорию порядка больших пространств как с морально-этической точки зрения, так и с позиций политического реализма.
При всей одиозности трактата о порядке больших пространств в праве народов, у его автора нельзя отнять огромной исследовательской интуиции. К. Шмитт продемонстрировал, что мир движется к большим пространствам и раскрыл роль пространственной революции в человеческом мышлении, а также в планировании и организации совместной жизни народов. Разработанный им категориальный аппарат представляет собой оригинальный инструментарий анализа и прогноза международных изменений. Например, его анализ «американо-континентального мышления пространством и британско-империалистического мышления проливами и путями» выглядит актуальным с точки зрения оценок внешней политики США при второй администрации Д. Трампа. Раздел о «линиях дружбы» применим не только к изучению контуров многополярного мира, но и к анализу изменения баланса сил в его отдельных регионах, например, в Арктике.
Наконец, с точки зрения такой области международных исследований, как бриксология, могут быть полезны рассуждения К. Шмитта о четырех способах мыслимых правовых отношений: 1) между большими пространствами; 2) между ведущими державами больших пространств; 3) между народами внутри какого-либо большого пространства; 4) между народами различных больших пространств. БРИКС в настоящее время включает в себя все названные типы отношений.
На первый взгляд, ничто в весьма популярной сейчас концепции многополярности не позволяет связать ее с идейным наследием Карла Шмитта — одиозного, но при этом весьма влиятельного теоретика права и политики ХХ века. Ключевые подходы многополярности общеизвестны — суверенитет, равноправное сотрудничество, невмешательство во внутренние дела. Трудно даже представить, чтобы деконструкция концепции многополярного мира привела к К. Шмитту и его трудам, например, к его работе «Порядок большого пространства в правах народов и запрет на интервенцию пространственно чуждых сил.
Ассоциации с шмиттеанскими идеями могут возникнуть в тот момент, когда концепция многополярности приобретает четко выраженный региональный характер. В последнее время именно этот аспект выходит на первый план, особенно с учетом повышения внимания к архитектуре евразийской безопасности.
Многополярность по-шмиттеански
Биография и обширное научное наследие Карла Шмитта не перестают привлекать новые поколения исследователей, несмотря на национал-социалистическое прошлое ученого, состоявшего в НСДАП. Интерпретируя его работы, исследователи зачастую выделяют отдельные его идеи и используют их как основание для критики западных либеральных демократий и миропорядка.
В историю международно-правовой мысли К. Шмитт вошел в том числе и в связи с предложенной им в самом начале Второй мировой войны концепцией порядка больших пространств. Он видел в ней жизнеспособную альтернативу англосаксонскому либеральному интервенционизму и универсализму. Именно эти силы мыслитель винил в хаосе межвоенной эпохи, посеянном под прикрытием громких лозунгов о благе человечества. Кроме того, К. Шмитт заявлял о «структурном соединении внутригосударственного либерализма и международно-правовой гегемонии западных демократий», отмечая двойные стандарты «в двадцатилетней истории защиты прав меньшинств Версаля-Женевы». Это делает его концепцию близкой по смыслу подходам современной российской дипломатии, отвергающей «миропорядок, основанный на правилах».
Второй элемент сходства — акцент на защищенности от вмешательства внешних игроков во внутренние дела стран евразийского региона. Запрет на интервенцию чуждых сил можно назвать краеугольным элементом шмиттеанского понятия «большого пространства». Согласно К. Шмитту, принятие доктрины Монро зафиксировало формирование первого большого пространства, созданного по принципу запрета на интервенцию европейских держав в американские государства. Первоначальный смысл доктрины состоял в трех тезисах — независимость всех американских государств; недопустимость колонизации в этом пространстве; недопустимость интервенции неамериканских сил в этом пространстве.
В Москве принцип невмешательства в дела Евразии внерегиональных акторов видится ключевой предпосылкой обеспечения безопасности в этом регионе. Так, на встрече с руководством МИД России 14 июня 2024 г. президент В. Путин, раскрывая концепцию евразийской безопасности, отмечал необходимость постепенного сворачивания военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе, подчеркивая, что государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере безопасности. Та же мысль о нежелательности вмешательства внерегиональных сил в развитие Евразии была высказана также российским министром иностранных дел С. Лавровым.
Хотя запрет на интервенцию чуждых сил сближает российское видение проблематики евразийской безопасности с шмиттеанской идеей порядка больших пространств, между ними существуют серьезные различия. Отечественный подход предполагает равноправное, недискриминационное участие всех государств региона в создании и поддержании этой архитектуры, в то время как тезис К. Шмитта о порядке больших пространств носит иерархический характер. Во многих своих аспектах он представляет вызов российской официальной трактовке идей многополярности и евразийской безопасности.
Во-первых, работа о порядке больших пространств — одно из самых одиозных исследований в списке трудов К. Шмитта. Оно изобилует хвалебными сентенциями в адрес фюрера и нацистской Германии. Недаром К. Шмитта его критики именуют «коронованным юристом Третьего рейха». Ассоциации с К. Шмиттом, навязываемые читательской аудитории в англоязычных публикациях о российской внешней политике, используются их авторами для дискредитации идеи многополярности и инициативы по созданию Большого евразийского партнерства.
Во-вторых, трактат К. Шмитта о «больших пространствах» заставляет задуматься о том, какую модель возможно реализовать — справедливый многополярный мир, основанный на Уставе ООН, или шмиттеанский «плюриверсум» больших пространств? Равным образом можно задать и следующий вопрос: какая же модель из этих двух в действительности претворяется в жизнь в настоящее время?
В-третьих, трактат о больших пространствах ставит вопрос о способах установления и эффективного поддержания разграничительных или «дружеских» линий (amity lines), уберегающих разные большие пространства от взаимных интервенций. Всем, кто знаком с трудами К. Шмитта, известен также его анализ «линий дружбы», т. е. соглашений, заключавшихся в предыдущие эпохи между европейскими колониальными державами. В качестве первого примера «дружеской линии» ученый приводит испано-французский договор 1559 г., подписанный в Като-Камбрези, хотя и в более ранний период можно найти аналогичные договоры, например, испано-португальский Тордесильясский договор 1494 г. По мнению К. Шмитта, именно подобные соглашения отделили в прошлые эпохи неевропейское пространство, где были позволены любые жестокости, от относительного умиротворенного в смысле ограничения жестокости войн европейского межгосударственного пространства. Автор полагал, что и более поздние «многочисленные нейтрализации» (Швейцария, Бельгия, Люксембург), а также объявления «независимости» XIX и XX веков имели смысл пространственных выделений и обособлений, в большинстве случаев на службе… европейской политики равновесия».
«Дружеские линии» — неотъемлемый элемент шмиттеанской концепции многополярности. В этом аспекте данную концепцию можно расценивать как результат переосмысления автором опыта европейских колониальных держав. Раскритиковав этот опыт, К. Шмитт не отверг колониализм в принципе, а лишь предложил его более современную для своей эпохи и более изощренную версию. Таким образом, шмиттеанская версия многополярности, при внешнем сходстве отдельных элементов, по своей сути полностью противоречит российскому видению многополярного мира.
В соответствии со логикой рассматриваемой теории, «дружеские линии, в различных проявлениях пространственно и в переносном смысле лежат в основе каждой международно-правовой системы». К. Шмитт рассуждал в своем трактате о больших пространствах и пакте Молотова-Риббентропа в качестве новой дружеской линии, проведенной накануне Второй мировой войны. Этот фрагмент его исследования служит лучшим подтверждением серьезных рисков, сопряженных с попытками проведения «дружеских линий» в самой Европе. Несмотря на то, что автор вряд ли ставил перед собой такую цель, он положительно оценивал это соглашение, что дискредитирует теорию порядка больших пространств как с морально-этической точки зрения, так и с позиций политического реализма.
Порядок больших пространств
Тем не менее шмиттеанская теория прямо связывает возможность реализации многополярного миропорядка с признанием больших пространств, а значит и разграничительных линий между ними. Взгляд на многополярный мир через эту призму не оставляет в тени вопросы о том, возможно ли установление новых «линий дружбы», в особенности между Западным (евроатлантическим) и Восточным (евразийским) пространствами, и что эти линии могут означать на практике. Но, прежде чем перейти к поиску ответа на них, стоит остановиться на специфике внутренней организации больших пространств, как она была определена К. Шмиттом.
Свое концепцию большого пространства автор разработал, оттолкнувшись от понятия империи. Империи — основные субъекты международных отношений, и все мировые порядки, по К. Шмитту, носят «межимперский», а не межгосударственный характер. В предыдущие эпохи их заменяли великие державы. Именно империя, согласно К. Шмитту, конституирует большое пространство, упорядочивает его, подчиняя определенным мировоззренческим идеям и принципам и исключая интервенции в это пространство чуждых сил. Возникает закономерный вопрос: какое место в порядке больших пространств занимают неимпериоообразующие народы? На этот счет в академических кругах высказывается точка зрения, что, поскольку имперское пространство у К. Шмитта инклюзивно, периферия не находится в угнетенном положении. Однако такая точка зрения затеняет иерархические элементы в рассматриваемой концепции. Немецкий политолог разделял народы на те, кто способен создать собственную империю, и те, что живут в ареале большого пространства, стержень которого — какая-либо империя, пользуются его защитой, но сами по себе не относятся к «империоообразующим». К. Шмитт не оставляет свободы выбора таким народам, заключая, что они неизменно выберут развитие в рамках «своего» большого пространства. Однако для самих малых и средних стран и их народов в реальных исторических условиях это может быть совсем неочевидно — они могут принять собственное решение.
Если же анализировать только научную семантику, которой наделил термин К. Шмитт, то нельзя не заметить определенное сходство между шмиттеанской империей и понятием государство-цивилизация. Сходство между ними состоит в том, что ареал идейного, ценностного, нормативного, культурного «излучения» государства-цивилизации превосходит его территорию. Тем же образом каждая империя имеет большое пространство и благодаря этому возвышается как над обычным государством, пространственно характеризуемым исключительностью своей государственной территории, так и над народной почвой отдельного народа.
Действительно, у К. Шмитта «большое пространство» носит почвенный и народный характер. Это пространство совместной жизни народов, организованной вокруг какой-либо ведущей державы. С учетом «почвенности» шмиттеанского пространственного мышления становится ясна специфика его отношения к евроатлантическому пространству, объединенному не на принципе почвы, а на принципе океана как свободной стихии. Для К. Шмитта евроатлантизм — глобализм, универсализм. Если же с помощью шмиттеанской теории искать ответ на вопрос о том, возможно ли устойчивое и мирное разграничение евроатлантического и евразийского больших пространств в современных условиях, то имеет смысл оттолкнуться от ее нескольких тезисов.
Во-первых, обращает на себя внимание предложенная К. Шмиттом трактовка понятия «мирная перемена» (peaceful change). Так, исследуя причины кризиса межвоенного миропорядка, он возлагает вину за этот кризис на Англию и Францию, которые, как автор заявляет, не смогли осуществить справедливую мирную перемену c подлинными дружескими линиями и ввести новые, растущие народы Европы в ведомую ими систему международного права.
Между тем, определенную мирную перемену, отсутствие которой в 1930-е гг. так удручало К. Шмитта, страны западной демократии осуществили уже в послевоенной истории. Она произошла с помощью бархатных революций конца 1980-х гг. в странах Восточной Европы, что не только расширило влияние Запада в европейском регионе, но и было им воспринято как «окно возможностей» для экспансионистского расширения евроатлантического пространства и военного блока НАТО. С позиций сегодняшнего дня напрашивается вывод о том, что мирная перемена конца 1980-х гг. не придала европейскому порядку подлинной устойчивости.
В этой связи стоит обратить внимание еще на один термин, предложенный К. Шмиттом, — эффективное владение пространством. Как показывает исторический опыт, критерий эффективного владения пространством можно назвать достаточно полезным. Так, несмотря на то что вопрос границ в послевоенной Европе оставался не урегулированным, до тех пор, пока СССР не дал повода усомниться в том, что он «эффективно владеет» восточноевропейским пространством, масштабных мирных перемен в этом пространстве не происходило. Иными словами, относительно устойчивое разграничение больших пространств, по всей видимости, возможно и без формального соглашения о «дружеских линиях» в том случае, если каждая ведущая держава демонстрируют эффективное владение «своим» пространством.
Критерий «эффективного владения пространством» может быть одним из инструментов анализа развития большого евразийского и других региональных больших пространств. Например, в настоящее время можно наблюдать, как крах правления Б. Асада в Сирии дал повод сомневаться в возможностях России «эффективно владеть» большим евразийским пространством и упрочил позиции Турции в регионе. Усилилась конкуренция региональных игроков на отдельных частях пространства — на Южном Кавказе и в Средней Азии. На примере этой конкуренции становится ясным, что альтернативой русскому миру в Евразии может быть не только англосаксонский, но и тюркский мир. При этом если англосаксонский мир способен оказывать на евразийское пространство внешнее воздействие идейного, экономического, культурного, военного и политического характера, то тюркский мир относится к цивилизационным «ядрам» евразийского пространства, присутствуя и в самой России в этническом и лингвистическом смысле. Иными словам, шмиттеанский плюриверсум, по всей видимости, может основываться также на негласно признаваемых сферах влияния и постоянно меняющемся балансе сил.
Если же рассуждать об установлении формальных разграничительных линий между большими пространствами в современных условиях, то в соответствии со шмиттеанской логикой оно возможно в двух случаях. Во-первых, при условии непринятия в расчет голоса периферийных государств, расположенных между большими пространствами. Современное международное право, впрочем, не допускает этого. Во-вторых, при условии добровольной нейтрализации периферийных государств. С точки зрения шмиттеанского подхода такой сценарий применительно к современной Европе также вряд ли осуществим. Все дело в том, что К. Шмитт связывал наличие влиятельных нейтральных держав в системе европейского концерта XIX столетия с отсутствием сильного центра, то есть раздробленностью Германии. Хотя сегодня ситуация в Европе с точки зрения баланса сил принципиально иная, но сильного центра в ней также нет: два больших пространства (евроатлантическое и евразийское) затягивают в свою орбиту страны, ранее бывшие нейтральными. Как следствие, число нейтральных государств сокращается, и возрождение политики сильного нейтралитета в этом регионе мира выглядит маловероятным.
***
При всей одиозности трактата о порядке больших пространств в праве народов, у его автора нельзя отнять огромной исследовательской интуиции. К. Шмитт продемонстрировал, что мир движется к большим пространствам и раскрыл роль пространственной революции в человеческом мышлении, а также в планировании и организации совместной жизни народов. Разработанный им категориальный аппарат представляет собой оригинальный инструментарий анализа и прогноза международных изменений. Например, его анализ «американо-континентального мышления пространством и британско-империалистического мышления проливами и путями» выглядит актуальным с точки зрения оценок внешней политики США при второй администрации Д. Трампа. Раздел о «линиях дружбы» применим не только к изучению контуров многополярного мира, но и к анализу изменения баланса сил в его отдельных регионах, например, в Арктике.
Наконец, с точки зрения такой области международных исследований, как бриксология, могут быть полезны рассуждения К. Шмитта о четырех способах мыслимых правовых отношений: 1) между большими пространствами; 2) между ведущими державами больших пространств; 3) между народами внутри какого-либо большого пространства; 4) между народами различных больших пространств. БРИКС в настоящее время включает в себя все названные типы отношений.
До тех пор, пока сохраняет свою остроту дискурс о многополярности, остается злободневным и его шмиттеанское отражение. Расценивать ли его как пропитанную нацистской идеологией карикатуру на подлинную идею многополярности или как индикатор ее скрытых слабых сторон, а также как инструмент анализа и прогноза современной мировой политики — решать интерпретаторам.