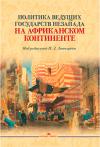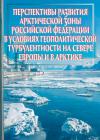Мало кто оспаривает тот факт, что, пусть и с опозданием на 30 лет, мир переживает переход от одного международного порядка к новому, многополярному. В истории такие смены фиксировали вызревший новый баланс сил в недрах доминирования Западной цивилизации и потому являлись результатом мировых войн. Так было с Первой и Второй мировыми, которые логично рассматривать как вторую Тридцатилетнюю, давшую нынешний послевоенный миропорядок. Но он более не отражает реальной расстановки сил, прежде всего в части экономической и технологической мощи ведущих государств.
С приходом Дональда Трампа в Белый дом можно судить о том, что такое понимание есть и у консервативного сегмента американских элит. К этому подвели неоднозначные результаты 40-летней глобализации, которая ударила по среднему классу стран Запада и привела к подъему всего остального мира, включая Китай и Индию. Одновременно изжила себя прежняя идеологическая система координат: стремление продолжать либерально-глобалистскую политику, доводя ее до абсурда и откровенной утопии, приводило к саморазрушению Запада, и прежде всего глобального гегемона — Америки. Контроль над миром стал игрой, которая не стоит свеч.
Пришло время сбросить с себя это бремя и перейти к великодержавной стратегии XIX века, то есть сделать ставку на договоренности в кругу ведущих держав с отказом от идеологизации международных отношений. Вполне в русле Вестфальских принципов, которые подвели черту под Тридцатилетней войной (1618–1648 гг.) и в целом под Религиозными войнами в Европе, спровоцированными Реформацией.
Мало кто оспаривает тот факт, что, пусть и с опозданием на 30 лет, мир переживает переход от одного международного порядка к новому, многополярному. В истории такие смены фиксировали вызревший новый баланс сил в недрах доминирования Западной цивилизации и потому являлись результатом мировых войн. Так было с Первой и Второй мировыми, которые логично рассматривать как вторую Тридцатилетнюю, давшую нынешний послевоенный миропорядок. Но он более не отражает реальной расстановки сил, прежде всего в части экономической и технологической мощи ведущих государств.
С приходом Дональда Трампа в Белый дом можно судить о том, что такое понимание есть и у консервативного сегмента американских элит. К этому подвели неоднозначные результаты 40-летней глобализации, которая ударила по среднему классу стран Запада и привела к подъему всего остального мира, включая Китай и Индию. Одновременно изжила себя прежняя идеологическая система координат: стремление продолжать либерально-глобалистскую политику, доводя ее до абсурда и откровенной утопии, приводило к саморазрушению Запада, и прежде всего глобального гегемона — Америки. Контроль над миром стал игрой, которая не стоит свеч.
Пришло время сбросить с себя это бремя и перейти к великодержавной стратегии XIX века, то есть сделать ставку на договоренности в кругу ведущих держав с отказом от идеологизации международных отношений. Вполне в русле Вестфальских принципов, которые подвели черту под Тридцатилетней войной (1618–1648 гг.) и в целом под Религиозными войнами в Европе, спровоцированными Реформацией.
Поэтому сейчас, когда Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за хронического дефицита во внешней торговле (порядка $2 трлн, что в сумме с дефицитом федерального бюджета, который превысил $1 трлн, превышает 10% ВВП), следует посмотреть, что могло бы при прежнем раскладе быть альтернативой — мировая война. Можно сказать, что происходящее сейчас — это неплохой вариант.
Просто никто не был готов трезво посмотреть на вещи. Изначально было ясно, и Трамп этого не скрывал, что у американцев выбор невелик и они должны его сделать, пока еще могут разыграть свои преимущества и привилегии в рамках мировой роли доллара и доступа к своему рынку. При этом «друзья и противники» уравниваются.
Что до «друзей», интерес представляет опубликованный РИА Аналитика доклад «Американские мегафонды, или Кто похищает Европу». Из него следует, что США и безо всяких межгосударственных договоренностей контролируют экономику и банковский сектор Евросоюза, включая Германию. Преобладание американцев в сфере услуг, на что ссылаются в Европе, вряд ли играет против США.
Если на Китай приходится 40% дефицита текущего счета платежного баланса США, то практически всё остальное — на союзников: ЕС, Великобританию, Японию и Южную Корею. Что называется, ничего личного — только бизнес. Разумеется, это разрушает исторический Запад, каким мы его знали.
Россия (как и Белоруссия) оказались в уникальном положении и не вошли в список из 185 стран, подвергшихся американской «тарификации». Наша взаимная торговля ничтожна, в том числе вследствие хронических санкций. Кстати, тоже замена прямой войне, которая чревата применением ядерного оружия. То есть налицо определенный тренд, отвечающий духу времени.
Совокупность накопленных Америкой проблем требовала радикальных решений. К тому же исчерпал себя растущий тренд фондового рынка, который должен вот-вот рухнуть. Поэтому, действуя на упреждение и в начальный период своего мандата с тем, чтобы к выборам 2026 года прийти с позитивными результатами, Трамп поступает мудро. Можно сказать, что он навязал миру, скорее всего, беспроигрышную для Америки игру, когда всем остальным безусловно будет хуже. И прежде всего Китаю — главному адресату этой тарифной революции.
Хорошо то, что авантюра Байдена на Украине фактически снимает вопрос о силовом сдерживании Китая: время упущено и нет достаточных ресурсов. Отсюда разыгрывание весьма существенной торгово-экономической взаимозависимости с Пекином. Тем более, что Трамп — ввиду бесперспективности для Вашингтона участия в «гонке» силовой политики (она проиграна нам и будет скоро проиграна Пекину) — переходит к «гонке развития» с открывающейся перспективой ядерного разоружения и сокращения военных бюджетов.
То, что демонстрирует Трамп, служит весомым аргументом в пользу высокой вероятности того, что под вопросом в сложившейся системе международных отношений окажутся не только ВТО, но, возможно, и ООН, и международное право, которым противостоит американский суверенитет. Мир, дойдя до предельной (и не самой худшей точки!), качнулся обратно в историю. Утешением может служить то, что это произошло в качественно новых условиях, прежде всего технологических, и с преодолением аберрации по отношению к Вестфальским принципам, каковой была холодная война.
Источник: Эксперт