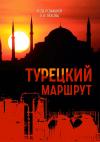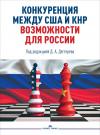«Мягкая сила» России: как найти «точки входа» в сферу интересов зарубежных аудиторий?
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
Япония ограничена внутренней направленностью её культуры. Она достигла неординарных успехов в приобщении к иностранным технологиям, но принимает иностранцев с гораздо меньшей охотой. Хотя американцы также бывают ограниченными и сосредоточенными на своих внутренних делах, но открытость американской культуры для людей разных национальностей <…> обладает международным влиянием.
Джозеф Най, «Мягкая сила» (1990)
Тот факт, что в России наконец-то заговорили о «мягкой силе», безусловно, радует. Как известно, это понятие даже попало в новую Концепцию внешней политики РФ, утверждённую в феврале 2013 года. Однако убедительность российских аргументов для иностранных аудиторий будет, в конечном счёте, напрямую зависеть от глубины понимания нами обществ наших целевых стран и от наших возможностей привлечь к сотрудничеству местных экспертов.
В качестве практических инструментов «мягкой силы» называются усиление поддержки русского языка за рубежом путём создания сети центров русской культуры - «Институтов Пушкина»; улучшение имиджа России посредством работающих на иностранную аудиторию средств массовой информации, таких как Russia Beyond the Headlines и Russia Today; повышение рейтингов российских вузов, развитие привлекательности российского образования в мире.
Однако для действительно успешного развития российской «мягкой силы» необходимо уделить должное внимание двум аспектам, которые, возможно, кажутся не такими важными на первый взгляд, но в конечном счёте, могут оказаться определяющими.
Во-первых, необходимо тщательно оценить, соответствует ли российская политика «мягкой силы» интересам, ценностям и упованиям её целевой аудитории? Разумеется, мы хотим рассказывать, рассказывать и рассказывать о себе! Вполне естественно наше желание говорить с иностранцами о нашей богатой литературе, прекрасной архитектуре, загадочной душе. Однако чтобы заинтересовать иностранцев Россией, необходимо найти точки входа в сферу их интересов. Отталкиваться при этом следует не от того, что мы хотим рассказать им, а от того, что может заинтересовать их.
Причём, такие точки входа могут быть совершенно различными в разных странах. В Китае, например, где я живу и работаю, меня часто спрашивают о российской кухне и о том, сколько русские могут выпить водки. Вопрос о кухне таит в себе искренний повышенный интерес китайцев к кулинарной культуре, а вопрос о водке отнюдь не имеет потенциально негативной коннотации. Способность потребления большого количества алкоголя до сих пор считается в Китае признаком физической силы, поводом для гордости и даже может вызывать восхищение. Китайские коллеги-политологи чаще всего спрашивают меня об особенностях процесса постсоветских реформ в России, который представляет актуальность для Китая. А водители городских такси – о том, любят ли россияне Владимира Путина, который, возможно, в Китае является самым лично популярным современным зарубежным политиком.
Во-вторых, развивать «мягкую силу» России необходимо не только возможностями самих россиян, а в тесном сотрудничестве с представителями культуры нашей целевой аудитории: журналистами, звёздами, экспертами. Конечно, в таком деле, как российская культура мы чувствуем себя мастерами и хотим учить, учить и учить других! Понимание иностранцами нашей культуры, зачастую, кажется нам неверным или даже раздражает нас. Но их мнение необходимо учитывать. Прежде всего, они подскажут те вопросы о России, которые заинтересуют их соотечетственников, так как правильно заданный вопрос – это половина ответа. Кроме того, им проще будет завоевать доверие их соотечественников, чем самим россиянам, ведь также как они являются иностранцами для нас, и мы являемся иностранцами для них.
Вернусь в качестве примера к Китаю, успехи «мягкой силы» которого были оценены почти в два раза выше российских в рейтинге, составленном экспертами Ernst&Young и Сколково. Китайские университеты принимают всё большее количество иностранцев не только в качестве студентов, но и в качестве преподавателей. Этим самым достигается лучшее понимание зарубежных стран китайскими студентами, а также повышается общая привлекательность Китая среди иностранной университетской интеллигенции, которой предоставляется всё больше возможностей для работы и даже карьеры в Китае. Китайские средства массовой информации постоянно берут интервью у проживающих в Китае иностранцев, задавая им вопросы от самых простых вроде «Как Вам нравится китайская кухня?» до серьёзных комментариев на общественно-политические темы, кстати, цензурируемых гораздо меньше, чем принято у нас считать. По моим наблюдениям, количество китайских преподавателей, непосредственно принятых на работу российскими вузами, намного меньше количества российских преподавателей в Китае. А голоса проживающих в России китайских граждан практически и вовсе не слышны в российских СМИ.
Итак, стоит как можно раньше и полнее развернуть работу по изучению особенностей целевых аудиторий российской политики «мягкой силы», а также по привлечению к сотрудничеству местных экспертов. Без этого мы рискуем вещать в вакуум, что приведет к разочарованию в результатах, вызовет недовольство российского населения тратой государственных денег на проведение политики «мягкой силы» и, в конечном счете, может закончиться её свёртыванием по сценарию помощи странам бывшего социалистического лагеря, которые теперь воспринимаются в нашем обществе как «неблагодарные».
К.полит.н., старший научный сотрудник ЦЭМИ РАН
Блог: Бродкаст из Китая
Рейтинг: 0