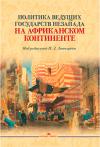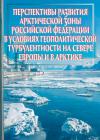Круглый стол РСМД «Публичная дипломатия США: новые ориентиры, прежние задачи»
Вход
Авторизуйтесь, если вы уже зарегистрированы
(Голосов: 3, Рейтинг: 5) |
(3 голоса) |
31 марта 2025 г. Российский совет по международным делам (РСМД) провел круглый стол на тему «Публичная дипломатия США: новые ориентиры, прежние задачи».
В ходе круглого стола участники обсудили эволюционный путь публичной дипломатии США, основные приоритеты американской публичной дипломатии и ее современное состояние при администрации Д. Трампа. В круглом столе приняли участие эксперты и исследователи, представляющие российские академические и образовательные институты, представители СМИ и общественных организаций.
С вступительным словом выступили генеральный директор РСМД Иван Тимофеев, заслуженный деятель науки РФ, профессор Кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Татьяна Шаклеина и и.о. Директора Института США и Канады им. Г.А. Арбатова РАН Наталья Цветкова.
31 марта 2025 г. Российский совет по международным делам (РСМД) провел круглый стол на тему «Публичная дипломатия США: новые ориентиры, прежние задачи».
В ходе круглого стола участники обсудили эволюционный путь публичной дипломатии США, основные приоритеты американской публичной дипломатии и ее современное состояние при администрации Д. Трампа. В круглом столе приняли участие эксперты и исследователи, представляющие российские академические и образовательные институты, представители СМИ и общественных организаций.
С вступительным словом выступили генеральный директор РСМД Иван Тимофеев, заслуженный деятель науки РФ, профессор Кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Татьяна Шаклеина и и.о. Директора Института США и Канады им. Г.А. Арбатова РАН Наталья Цветкова.
Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев в своем выступлении обратил внимание, что сегодня наступает интересный момент в российско-американских отношениях, когда роль дипломатии «второго трека» может быть крайне важной. Однако необходимо учитывать, что русистика в США переживает период спада, а представители школы советологии единичны. Виден разрыв в поколениях исследователей российско-американских отношений. Ведущие американские русисты, профессионалы в исследованиях России разочаровываются в своем направлении деятельности из-за роста пропагандистского элемента в их работе. На этом фоне происходят важные изменения в системе публичной дипломатии США — закрытие агентства USAID или же его фактическая реструктуризация. Для России — это проблема, потому что мы пока не понимаем, как USAID или его аналог будут работать. Возможно, новые технологии, в т.ч. ИИ, позволят этому органу работать эффективнее. Проникновение новых технологий (контроль за алгоритмами в соцсетях, таргетированная работа с узкими аудиториями) в публичную дипломатию уже идет очень активно. Однако, несмотря на прорыв в области алгоритмов, человеческое общение и химию личной коммуникации пока заменить невозможно. С учетом новых реалий российско-американских отношений нам нужно быть готовыми (и мы готовы) к тому, чтобы использовать этот момент для продвижения российских национальных интересов.
Заслуженный деятель науки РФ, профессор Кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России Татьяна Шаклеина в рамках вступительного слова подчеркнула важность государственной политики, реализуемой посредством публичной дипломатии и приоритетность финансирования таких средств и инструментов со стороны государства. Например, американские НПО имеют колоссальное финансирование из федерального бюджета. Историческими примерами таких масштабных трат в целях публичной дипломатии служат Американская национальная выставка в Сокольниках в1959 г. и выставка «Советская женщина» в США в 1979 г. Отдельно Татьяна Шаклеина обратила внимание на необходимость правильного и точного использования терминологии в области публичной дипломатии. Отечественная наука заимствует термины из зарубежной науки, что само по себе не плохо, но важно, чтобы смысл зарубежных терминов совпадал со смыслом аналогичных терминов в русском языке. Вместо термина «публичная дипломатия» в России можно использовать термин «гуманитарная политика» или «социогуманитарная политика». Также Т. Шаклеина подчеркнула необходимость взаимодействия участников публичной дипломатии с ведомствами, которые занимаются этой деятельностью. Вместе с этим традиционная посольская дипломатия — главный двигатель общественной и гуманитарной деятельности. Вот здесь государство должно озаботиться тем, чтобы возрождать эту мощную гуманитарную работу посольств, особенно в крупных государствах, таких как США.
В ходе своего вступительного слова и.о. Директора Института США и Канады им. Г.А. Арбатова РАН Наталья Цветкова обозначила перспективы публичной дипломатии администрации Д. Трампа. Закрытие агентства USAID — это бюрократическое реформирование. Часть финансирования USAID будет приостановлено, но по большей части это действительно поиск дублирования программ. Оставшееся финансирование USAID пойдет, вероятно, на различную цифровую деятельность: цифровую дипломатию, работу в социальных сетях. Многие традиционные программы обменов, культуры, спорта и т.д. Д. Трамп «зачистит». Все будет сведено к одному знаменателю, как в период Холодной войны — одна программа, одна страна, где все четко и понятно. А цифровые проекты, которые ведет Д. Трамп, приобретут архимасштабное развитие. Администрации Дж. Байдена удалось создать по периметру США цифровые альянсы. На сегодняшний день мощное развитие получает искусственный интеллект (ИИ). Не только сам Д. Трамп, но и американское общество, и частные компании, которые занимаются ИИ, будут подталкивать республиканскую администрацию к созданию различных киберальянсов. При Дж. Байдене производители ИИ, которые хотели бы участвовать в цифровой или публичной дипломатии, должны были докладывать Белому дому, что алгоритмы хорошо «подкручены», что там нет какой-то антиамериканской информации, которая могла бы быть использована Россией и КНР. Д. Трамп в феврале дал больше свободы представителям т.н. Big Tech в работе с ИИ после появления китайского «DeepSeek». Сегодня существует перенасыщение информацией, которое поможет американцам таргетировано работать с узкими группами людей в цифровом пространстве. Для Д. Трампа — это возможность продвигать свою повестку.
В своем выступлении научный сотрудник Сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Ульяна Артамонова отметила, что с большой вероятностью публичная дипломатия не будет приоритетным инструментом для внешней политики Д. Трампа. Определенный процесс атрофии американской публичной дипломатии наблюдался еще в 1990-х гг., когда закончилась Холодная война, и первоначальная потребность в ней пропала. Складывалось впечатление, что при администрации Дж. Байдена наметился пересмотр роли публичной дипломатии во внешней политике США, и были предприняты попытки оптимизировать деятельность соответствующих подразделений в Государственном департаменте. Этому есть два объяснения: 1) начало специальной военной операции России на территории Украины, которая сыграла стимулом и напоминанием о временах Холодной войны, когда информационное противостояние с Россией было на повестке дня; 2) сам Дж. Байден относился к поколению, которое активно строило политическую карьеру в годы Холодной войны, т.е. он помнил еще те времена, когда это было не «третьесортным» направлением внешнеполитической деятельности. Д. Трамп вряд ли так же масштабно будет обращаться к публичной дипломатии, но будет применять ее точечно по мере необходимости выполнения внешнеполитических задач. Такой подход скажется отрицательно на американской публичной дипломатии как на целостном организме, его долгосрочном выживании и на его комплексной эффективности. Отдельно У. Артамонова подчеркнула, что при администрации Дж. Байдена Центр глобального взаимодействия государственного департамента США (сейчас закрыт), занимался противодействием иностранной информации (можно сказать контрпропагандой). Администрация демократов выстраивала систему альянсов, которая состояла из отдельных двусторонних договоренностей. Началось с договоренностей со странами Запада. К концу 2024 г. действовало около 20 подобных соглашений. Видимо, планировался «зонтик», который будет закрывать не только информационное пространство США, но и пространство их союзников от информационных операций и от попыток воздействия со стороны России, Китая, Ирана и всех, кого они могут опасаться. Скорее всего, эти альянсы сохранятся и при администрации Д. Трампа.
Президент Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова отметила, что невозможно говорить о публичной дипломатии США в отрыве от российской публичной дипломатии. Интересно, как США будут реагировать на попытки налаживать взаимодействие на общественном треке. Во-первых, таких людей и организаций в ближайшем будущем будет очень мало. Организаций и персоналий, которые захотят войти во взаимодействие с американской страной, видя пример людей и организаций, которые персонально пострадали, попали под санкции и другие ограничения, будет очень мало. По мнению, Натальи Бурлиновой, самый перспективный канал восстановления структуры нормального взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном — это т.н. экспертная дипломатия. Это люди, которые находятся в структурах аналитических центров, которые могут начать этот диалог между друг другом с каждой из сторон.
Анна Великая, с.н.с. Группы по исследованию проблем мира и конфликтов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН в своем выступлении поделилась мнением о современной американской публичной дипломатии и ее задачах. Американская публичная дипломатия включает два основных трека: 1) привлечение союзников и согласных; 2) противодействие соперникам, прежде всего России, Китаю, Ирану и КНДР. Сегодня мы вряд ли можем говорить о ликвидации американской публичной дипломатии. Скорее, это пока аудит и выстраивание новой системы с пониманием новых приоритетов и целевой аудитории. Период этого аудита может быть нами использован. Те НКО и СМИ, к примеру, на пространстве бывшего Советского Союза, которые сейчас не будут получать финансирование, мы могли бы их «переподключить» на себя, но для этого нам нужны финансы. Россия также может предложить свои возможности по выстраиванию цифрового суверенитета. А. Великая также отметила в ходе выступления, что по линии «дипломатии второго трека» с американцами, можно выстраивать контакты, но доверие в одночасье не сформируется. Такие контакты и связи вырабатываются годами.
С.н.с. Института США и Канады им. Г.А. Арбатова РАН Павел Кошкин в рамках своего выступления поделился мнением, как нынешний президент США видит и использует американскую публичную дипломатию. По мнению эксперта, Д. Трамп отдает предпочтение классической пропаганде со свойственным навязыванием определенных картин мира и стремлением изменить картину мира у аудитории. Это ничего общего не имеет с публичной дипломатией, которая рассчитана на убеждение, на более интеллигентную и интеллектуальную подачу информации. По тактике и стремлению Д. Трампа видно намерение сделать движение ультраконсерваторов глобальным. По сути, мы видим превращение традиционных инструментов публичной дипломатии в инструменты обслуживания его личных интересов. Д. Трамп также превращает публичную дипломатию в инструмент культурных войн и популяризацию движения MAGA. Фактически, мы можем сказать, что Д. Трамп и публичная дипломатия в классическом понимании — несовместимы. П. Кошкин в своем выступлении также подчеркнул, что публичная дипломатия — это умение сохранить контакты независимо от политики.
В ходе своего выступления в.н.с. Группы изучения региональных отношений ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай Сухов рассказал о публичной дипломатии США на Ближнем Востоке. Основной задачей США на Ближнем Востоке является геополитическое сохранение и обеспечение безопасности Израиля. Исходя из этого строится экономическая, гуманитарная и иные политики США в странах региона. Сегодня многие гуманитарные программы USAID пересматриваются и далеко не все будут возобновлены. При этом, мы можем наблюдать в ретроспективе на Ближнем Востоке различные попытки создания многосторонних гуманитарных соглашений, которые подразумевали и культурные программы, и мобильность населения, например, израильских туристов в страны Персидского залива. Это большая работа США фактически в интересах другого государства, но которая приносит пользу Вашингтону. Также гуманитарная поддержка США таких территорий, как, например, курдская автономная администрация в Ираке, работа с элитами Иордании и Египта — это работа на формирование лояльности к США у местных элит. Эти элиты впоследствии отправляют своих детей на обучение на Запад. Это очень долгосрочная стратегия. Но важно понимать, что «улица» в странах Ближнего Востока Америку не любит. Такая работа с регионом — это больше чем публичная дипломатия, это глубокая гуманитарная работа, осознанная или неосознанная. Американская политика в отношении Ближнего Востока — долгосрочная. Она не ограничивается отдельными сроками администраций.
Доцент кафедры межкультурной коммуникации МарГУ Алексей Фоминых в своем выступлении обозначил ключевые сюжеты для американской публичной дипломатии. Первый — это ключевой нарратив публичной дипломатии США в лице задачи удержания лидирующих позиций в мире. Второй — это смещение акцентов в публичной дипломатии, которое связано с внутренней политикой. Сегодня отбрасываются все старые аспекты, которые транслировались публичной дипломатией — гендерная, расовая, феминистская, климатическая политики. Упор идет скорее на экономическую мощь, на индустриальную силу страны. Это своеобразный поклон американскому рабочему классу, который сделал эту страну, как говорит Д. Трамп. Третий сюжет — это проецирование безопасности. Это борьба с нелегальной миграцией, борьба с наркотрафиком, обеспечение безопасности южной границы, борьба с чрезвычайными ситуациями и т.п. То есть использование публичной дипломатии для достижения целей безопасности населения.
(Голосов: 3, Рейтинг: 5) |
(3 голоса) |